|
|
Исаак Бродский. Мой творческий путь: Круг друзей
Исаак Бродский. Новолуние. 1917
Портал TEHNE продолжает публикацию в полнотекстовом формате книги «Мой творческий путь» Исаака Израилевича Бродского (1884—1939), русского и советского живописца и графика, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1932), одного из главных представителей реалистического направления в советской живописи 1930-х годов и автора обширной изобразительной ленинианы.
Ниже мы предлагаем вашему вниманию седьмую главу книги. Часть иллюстраций заменена на более качественные.
Глава седьмая. Заграничные выставки. Конфликт с Тагиевым. Круг друзей. Шаляпин. Увлечение коллекционированием. Малявин. Галлен. Репин
Довольно рано я стал экспонироваться на крупных заграничных выставках. Еще в 1909 году я выставил в Париже в осеннем Салоне свои работы, причем из девяти вещей у меня были приняты пять: процент очень большой, если учитывать строгость отбора и огромный наплыв работ от художников всех стран.
Я участвовал также на Международной выставке в Риме в 1911 году, но крупный успех, совсем неожиданный, выпал на мою долю в Мюнхене в 1913 году.
Получив приглашение участвовать в Мюнхенской выставке, я задумался над тем, какую работу мне экспонировать. Новых работ, интересных для такой выставки, у меня не было.
В моей мастерской был пейзаж, которым я совсем не дорожил и не ценил его настолько, что он долго валялся на полу, заменяя подстилку. Но однажды художник Борис Григорьев, увидев его, пришел в восторг и стал уверять, что это моя лучшая вещь. Он уговорил меня почистить и исправить эту работу, а затем отправить ее в Мюнхен. Я подновил картину, но отправлять ее на выставку мне все же не хотелось. Я долго колебался, но времени до открытия выставки оставалось мало, и я «рискнул». Конечно, я был очень удивлен, когда узнал, что мне присуждена золотая медаль и что картина была куплена в мюнхенскую Пинакотеку.
 
Портрет Л. М. Бродской. Масло 1913 г.
В 1913 году я и мои товарищи, художники Горбатов и Лаховский, поехали в Псков писать этюды. Однажды во время работы к нам подошел околоточный надзиратель и попросил следовать за ним в полицейское управление, где у нас потребовали документы. Пришлось срочно телеграфировать в Академию, чтобы нам выслали справку. Уже приближалась война, и правительство опасалось шпионажа, поэтому были введены такие строгости.

О. А. Берман. Масло 1916 г.
Горбатов и Лаховский к работе относились с меньшим рвением, чем я. Мне не хотелось терять ни одного часа; возвратясь с этюдом домой, я тотчас же менял подрамник и холст и снова уходил работать. Приятели уговаривали меня «немного передохнуть» и сами ложились отдыхать. Помню, я говорил им: «Вы полежите, а я уж пойду попишу» — и уходил. Но им не лежалось: подстегивало чувство соревнования, и не успевал я выйти за дверь, как через пять минут они вставали и торопились меня догнать. По дороге они долго меня бранили, но потом, уже возвращаясь домой, были довольны, потому что благодаря мне могли написать лишний этюд.
Псков, с его замечательной архитектурой, с златоглавыми соборами, с базарной сутолокой площадей, со всей его провинциальной жизнью, захватил меня необычайным своеобразием и особым очарованием старого русского города. В Пскове я работал много и с не меньшим увлечением, чем в старых городах Европы.

Рисунок
В те годы я писал главным образом «для себя» и очень редко, как исключение, брал частные заказы. Не помню, кто предложил мне однажды взять заказ на портрет бакинского миллионера, известного нефтепромышленника Тагиева, который в то время был глубоким стариком, лет восьмидесяти. Я поехал в Баку. Писание портрета совпало с очень громким делом Тагиева: он приревновал свою молодую жену к одному инженеру, избил его и, кажется, чуть ли не посадил на кол. Об этом факте писали многие газеты, общественностью был поднят большой шум. Вместе со мной к Тагиеву приехали два известных адвоката; один из них — Маклаков, фамилии второго не помню. Слуги Тагиева приняли меня также за адвоката, потому что в то время Тагиев принимал только адвокатов. Позировал Тагиев очень плохо, сидел минуты две-три, да и то с большим трудом, и быстро засыпал. Мне приходилось за обедом внимательно вглядываться в него, а затем писать по памяти. Тагиев вообще считал, что лицо писать не столь важно, а главное — на портрете хорошо изобразить ленту и ордена так, чтобы было видно, какой они степени. Он говорил, что не нужно очень выписывать его лицо, на котором есть морщины. Услышав это, я сразу же остыл к портрету и поспешил его скорее закончить.
У портного мне удалось достать манекен, на который я надел мундир с орденами и лентой, и написал все так, что Тагиев не мог придраться. После этого я написал голову.
Когда портрет был готов, Тагиев не захотел заплатить мне денег, потому что считал, что я слишком быстро заработал две тысячи. Он мне заявил: «За одну неделю получить две тысячи рублей!? Когда я был молодым, я зарабатывал шесть копеек в день! Работай еще хоть две недели!» Свою карьеру Тагиев начал носильщиком (амбалом).
Пришлось созвать комиссию из учителей рисования и инженеров в составе пятнадцати человек. Комиссия признала, что портрет удачен, очень похож и его можно принять.
Но получить гонорар было не так просто. Я много раз приходил за деньгами, караулил Тагиева у всех выходов его дома и, наконец, решил сказать Тагиеву, что если мне не заплатят денег, я расскажу об этом Маклакову и напишу статью в петербургские газеты. Конфликт сразу же был исчерпан.
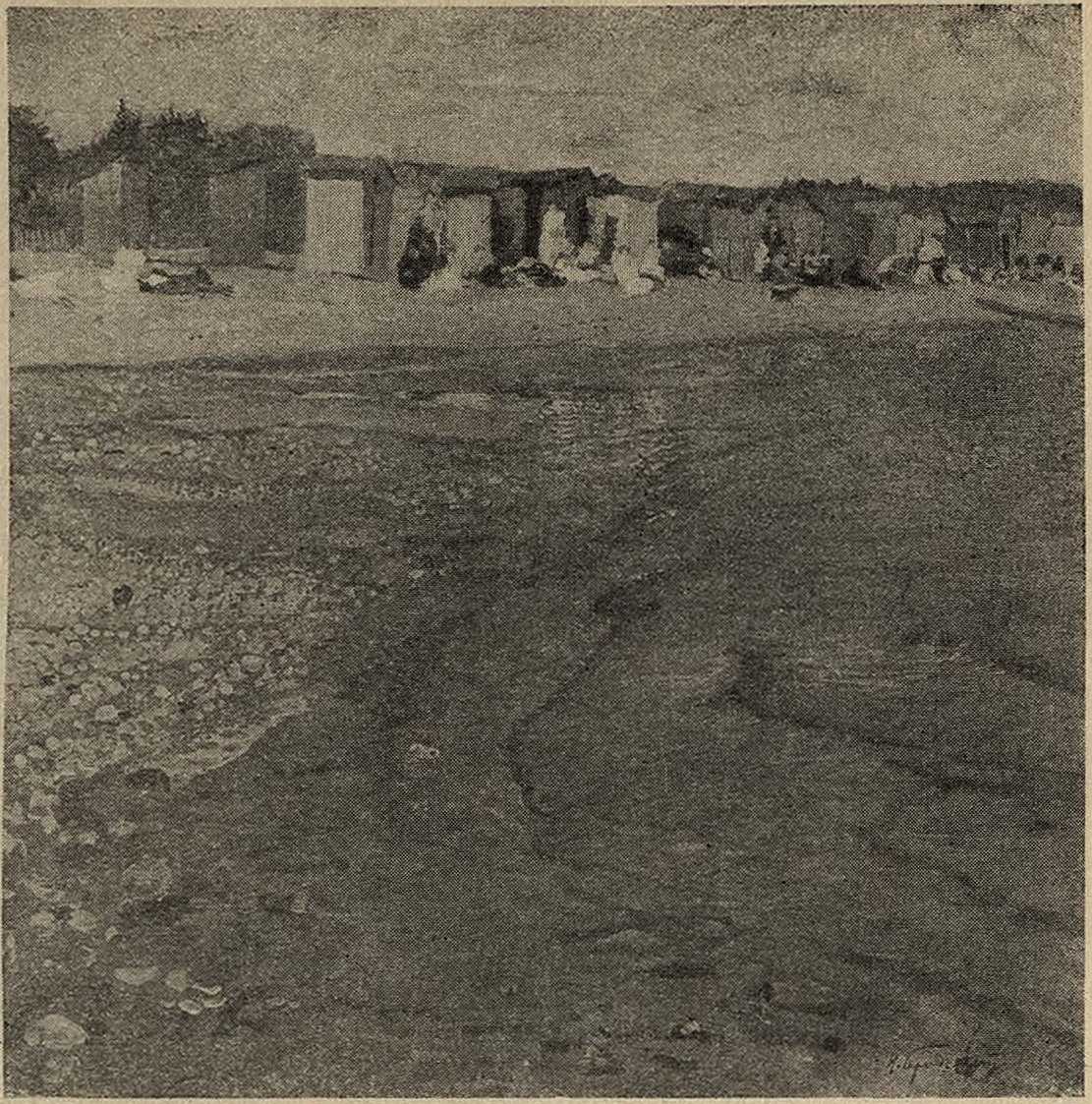
Куоккала. Этюд. Масло 1912 г.
Несмотря на то, что работать в те годы приходилось много, у меня оставалось свободное время для отдыха. Моими друзьями были артисты, музыканты, художники, писатели — много ярких, талантливых людей, которые составляли очень интересную, хотя и узкую, среду.
Это был круг людей, представителей художественной интеллигенции, постоянно встречающихся на вернисажах выставок, театральных премьерах, в артистических кафе или вечерах в Обществе Куинджи, в Обществе поощрения художеств, на «средах» у Репина и т. д.
Много выдающихся людей, составлявших в те годы цвет русской культуры, постепенно становились мне близкими — одни знакомыми, другие друзьями.
Ученые и общественные деятели: Менделеев, Павлов, Кони, Карпинский; писатели: Леонид Андреев, Куприн, Скиталец, Чириков, Свирский, Юшкевич, Шолом-Алейхем, Арцыбашев, Федор Соллогуб, Грин, Гусев-Оренбургский; артисты: Шаляпин, Собинов, Варламов, Мамонт Дальский, Юрьев, Дмитрий Смирнов, Хенкин, клоун Жакомино и много других. Среди этих лиц были люди, много сделавшие каждый в своей области; встречаясь с ними, можно было извлечь для себя много полезного и важного.
Я был еще очень молод и часто не умел оценить истинного значения многих моих знаменитых современников, которые казались мне интересными, но не такими значительными, какими они были на самом деле. Я часто жалею о том, что мне не удалось сделать портреты многих из тех, кого уже нет и с кем я был близок.
Вспоминаю свои встречи со Скрябиным, беседы с ним о музыке, об искусстве. Помню, мы вместе возвращались после какого-то вечера, и я пошел его провожать. Прощаясь, я предложил ему позировать мне для портрета, на что он охотно согласился, и мы даже уговорились о дне сеанса. Не помню, почему, но случилось так, что я его подвел, и сеанс не состоялся. Быть может, причина этому была малоувлекательная внешность Скрябина, ничем не похожего на композитора. Но мне нравились его необычайная скромность, внутренняя напряженность и внешняя сдержанность. Он был мало разговорчив и казался замкнутым. Чувствовалось, что это содержательный, всегда чем-то поглощенный человек, но удивительно просты и безличны были черты его лица, и художнику буквально не за что было ухватиться. Я не был большим поклонником творчества Скрябина, и сейчас еще ряд его вещей до меня не доходит.

Гулянье. Масло 1912 г.
В те годы, как и позже, я часто посещал концерты, следил за всеми музыкальными новинками, не пропускал ни одной гастроли приезжавших в Петербург знаменитостей.
Музыка воодушевляла меня к творчеству, наполняла большими чувствами, всегда оставаясь одним из близких мне искусств.
Ряд моих произведений, например, «Пастушка», был навеян впечатлениями от прослушанной музыки. Я испытываю огромное удовольствие, когда работаю, слушать игру на рояле или концертные передачи по радио.

Летний сад. Масло. 1926
Очень много для понимания искусства давало мне пение Шаляпина, которого я часто слушал.
Открытие выставки Союза русских художников обычно отмечалось большими обедами в ресторане «Прага». Почетным гостем на этих обедах был Шаляпин, который дружил со многими из художников; сам он не плохо рисовал, и если бы учился, то, вероятно, стал бы неплохим художником.
Помню один из таких торжественных обедов, когда официальная часть кончилась, все хорошо поели, много выпили: было очень весело. Шаляпин любил петь в избранном кругу своих друзей. Его не надо было уговаривать, пел он с увлечением и, как никто, умел захватить слушателей, которые, затаив дыхание, ловили каждый звук его чудесного голоса.
Помню, в тот вечер, когда Шаляпин пел какую-то русскую народную песню и мы все восторженно слушали его пение, вдруг кто-то осмелился грубо прервать певца, протестуя против его исполнения. Скульптор Коненков, очевидно, не в меру выпивший, придрался к исполнению Шаляпиным песни и стал уверять, что он поет ее не так и что нужно эту песню петь иначе, так, как он, Коненков, покажет.
Все зашикали и заставили скульптора замолчать, но, как только Шаляпин запел опять, Коненков снова остановил его и вступил с ним в ту же перебранку. Художники снова запротестовали. Когда Шаляпин стал петь снова, в третий раз, Коненков опять с упрямством пьяного человека поправил его. Тогда Шаляпин уже не в силах себя сдержать, стукнул своей тяжелой рукой по столу и обругал Коненкова крепкими словами.
Я помню, какое впечатление произвела эта отповедь Шаляпина, который в гневе кричал Коненкову:
— Кого ты учишь!? Как ты смеешь меня перебивать? Я — гений!
Многие присутствующие устроили Шаляпину овацию и готовы были Коненкова выгнать. Но Коненков подошел к Шаляпину и предложил ему бороться — «кто кого положит на лопатки».
Они сняли фраки, разделись и остались в брюках полуголые, с обнаженными торсами. Началась борьба. Оба противника были очень сильные люди. У себя в мастерской Коненков легко ворочал тяжелыми каменными глыбами. Но Шаляпин даже рядом с ним казался великаном. Он вмиг положил Коненкова, и тот быстро исчез из зала.
Пение Шаляпина и весь этот скандал в пьяной компании привели меня в какое-то взвинченное состояние; я забился за портьеру окна и заплакал, огорченный тем, что какой-то нахал мог прервать пение великого артиста. Меня отыскал Федор Иванович и долго нежно успокаивал. С этих пор началась наша дружба, которая оборвалась, когда Шаляпин, не захотев мириться с трудностями первых лет революции, покинул советскую Россию.
Это был на редкость одаренный человек; он умел удивительно интересно рассказывать о своей жизни, полной в молодости тяжелых невзгод и злоключений. В манере рассказывать у него было много от Горького, с которым он был очень дружен. Слушать Шаляпина было большим наслаждением. Я помню его замечательный рассказ о том, как он и Серов разыграли Коровина на выставке Союза русских художников в Москве.
У Коровина был этюд улицы в Севастополе, на котором он изобразил городового. Шаляпин и Серов стали уверять, что городовой похож на Николая II и что Коровина ждет большой скандал. Сходства между городовым и царем не было никакого, но Шаляпин и Серов убедили Коровина в том, что сходство полнейшее, и он поспешно снял картину со стены и замазал городового.
Много интересных людей я встречал на вечерах у литератора Ф. Ф. Фальковского, у которого часто бывали Леонид Андреев, Куприн, Чириков, Арцыбашев, Гордин и другие.
С Александром Ивановичем Куприным нас сблизила общая дружба с клоуном Жакомино, которого мы оба любили и ценили как большого, очень талантливого артиста.
Кажется, в 1913 году, когда Жакомино и Куприн отдыхали в Италии, я, находясь у себя на родине в Бердянске, получил открытку со следующими стихами Куприна, с которым тогда еще не был знаком:
Незнаком, но Ваш поклонник,
Из Милана шлю привет,
Экий город-беззаконник,
Веселей на свете нет.
И тут же была приписка Жакомино: «Сидим в кабачке, пьем итальянское вино и вспоминаем тебя».
Меня, скульптора Менделевича и Давида Бурлюка Леонид Андреев однажды пригласил к себе в Райвола, в Финляндию, где у него была богатая, построенная по его замыслу вилла.
Андреев занимался живописью, но работы его были, конечно, дилетантскими по выполнению; все же по темам чувствовалось, что это незаурядный человек. Его увлекали мистические сюжеты, очень интересно задуманные. Мне не хотелось огорчать Андреева, и я похвалил его работы. Он серьезно увлекался живописью и своими вещами был доволен. С Андреевым мы много гуляли по Райвола, любовались живописными далями, с террасы его дома открывались прекрасные виды.
Леонид Андреев был изумительно красивый человек; я всегда любовался его головой и часто думал о его портрете, который мне написать не удалось.

И. И. Бродский пишет портрет И. Е. Репина. Фотография 1913 г.
В предвоенные годы и в годы войны, помимо работ в области станковой живописи, я работал для многих журналов и сделал немало рисунков для различных еженедельников, сборников, брошюр и т. д. Некоторое время я заведывал художественной частью журнала «Вершины», где часто в редакции встречался с Блоком, Гумилевым, Анной Ахматовой, Сашей Черным, Тэффи, Агнивцевым и др.
Избегая богемы, которая так легко засасывала и выбивала из творческой колеи многих талантливых поэтов и художников, я все же изредка посещал кабачки «Привал комедиантов» или «Бродячую собаку», в которых поэты, художники и режиссеры всех мастей и направлений состязались, часто очень удачно, в остроумии и изобретательности.
Излюбленным местом журналистов, писателей, художников считался ресторан «Вена», хозяин которого усиленно рекламировал себя меценатом, что приносило ему немалые доходы. Постоянными посетителями «Вены» были сатириконцы Аверченко, Реми, Радаков, Исидор Гуревич, поэты Рославлев, Агнивцев и другие. Последний был большим мастером экспромтных шуток. Помню, и мне он посвятил четверостишие:
От любого Зодиака
До мыса Чукотского
Кто не знает Исаака,
Исаака Бродского.
Интересные литературные вечера устраивались обычно в университете. В них принимали участие Александр Блок, Сергей Городецкий, Соллогуб, Белый, Кузмин, Чулков, Дмитрий Цензор, Саша Черный и другие.
Когда я переехал на Полозову улицу, где в новом большом доме занял квартиру с мастерской, ко мне стали часто приходить мои друзья, и я, по примеру Репина, учредил один постоянный день в неделю для гостей.
По четвергам у меня собиралось много людей искусства: Шаляпин, Маяковский, Бурлюк, Каменский, архитектор Лангбард, изредка бывал Горький, собиралось также много артистов и музыкантов. Часто после импровизированного концерта разгорались споры: много и шумно говорили о футуристах, кубистах, лучистах, об их нелепых выставках и хулиганских выступлениях. Я был резко враждебен этим крайностям, выходящим за пределы искусства.
К периоду тех же лет относится начало моего увлечения коллекционированием картин. В моей мастерской постепенно накапливалось много интересных работ, собранных в разное время. Как-то совсем незаметно я стал завзятым коллекционером и с увлечением начал собирать любимых мною художников.
Работы Репина, Серова, Врубеля, Левитана, Степанова, Архипова, Коровина, Сомова, Туржанского, Головина и других все более и более заполняли стены моей квартиры.
Вспоминаю один из забавных эпизодов. Я был большим поклонником рисунков Малявина, но в моей коллекции не было ни одной его вещи. Купить рисунки Малявина я не мог: его работы оценивались очень дорого — две-три тысячи рублей один рисунок. Помню, как распаковывали ящики малявинских рисунков на выставке в Союзе русских художников в Москве за два-три дня до ее открытия. По выставке ходили московские богачи, именитые купцы, увлекающиеся собиранием произведений живописи. Когда появились ящики с рисунками Малявина, несколько миллионеров, бывших на выставке, не желая упустить интересные для них вещи, стали в очередь у ящика с малявинскими рисунками. Я также занял место в очереди, которая сразу нарушилась, когда ящик был открыт, и рисунки стали буквально расхватывать. У одного миллионера я увидел в руках замечательный рисунок «Три бабы». Я стал уверять его, что рисунок ерундовый, и советовал ему выбрать что-нибудь получше, а сам, схватив этот рисунок, быстро удрал и ждал, пока рассосется очередь. Малявин обошел всех покупателей, посмотрел, у кого какие рисунки, и расценил их от одной до двух тысяч за штуку. Дошла очередь до меня. Малявин знал, что я не смогу заплатить ему таких денег, как богачи, и по-приятельски уступил мне рисунок за триста рублей. Миллионер, увидев, что рисунок принадлежит мне, стал ходить за мной по пятам и уверять, что я вырвал рисунок из его рук, и долго уговаривал меня вернуть ему рисунок.
Художники часто завидовали Малявину, вещи которого шли по такой баснословной цене и нарасхват. Правда, он выставлялся очень редко, раз в три-пять лет, и купить его вещи было негде. Работы Репина шли значительно дешевле, часто он продавал свои рисунки за бесценок — тридцать-пятьдесят рублей. Лучшие из них, подчас шедевры, можно было купить за двести-триста рублей. В этом отношении Репин был очень наивен и неопытен, его ловко обрабатывали разные дельцы и спекулянты.
Нам, молодым художникам, Репин часто говорил:
— Я считаю, что нужно продавать картины, сколько бы за них ни дали. Пусть висят в музеях, квартирах, везде! Отдавайте хоть за пять рублей — картины должны висеть, чтобы на них смотрели.
Я уже говорил о своих художественных симпатиях; при всем уважении к мастерам «Мира искусства», меня тянуло более к Союзу русских художников, в котором были Архипов, Коровин, Врубель, Малявин, Юон, Туржанский, Жуковский, Виноградов, Грабарь, Аладжалов, Крымов, Рылов и другие.
Врубель в те годы выставлялся мало. Вспоминаю, как однажды, уже после его смерти, на выставке Союза русских художников я стоял перед картиной Врубеля, на которой был изображен в коляске его ребенок. Ко мне подошел художник Владимир Маковский и спросил, нравится ли мне Врубель. Я ответил, что «да»; в ответ на это он закричал: «Щенок вы этакий, как вы смеете так говорить?»

Рисунок
Союз русских художников был крупнейшим художественным объединением, в котором уживались порой далекие друг другу мастера. Выставки Союза, всегда хорошо организованные, пользовались большим успехом. С 1910 по 1917 год я был неизменным участником этих выставок, ежегодно выставлял на них пятнадцать-двадцать работ, одновременно принимая участие и в других выставках. Счастливым днем моей жизни был день, когда ко мне в мастерскую приехал Серов. Он интересовался моей «Сказкой», которую хотел предложить Третьяковской галлерее. Валентин Александрович осмотрел все мои работы, которые были тогда в мастерской, очень тепло отозвался о моем творчестве и особенно отметил зимние пейзажи.
— Я не ошибся в вас! — сказал он мне на прощание и напомнил о своем интервью с Н. Шебуевым, который напечатал в статье «Молодые» его отзыв о моих академических работах.
У меня сохранилась газетная вырезка с этой статьей: «Бродский — одинаковый мастер во всех манерах и везде интересен. Предсказываю ему прекрасное будущее».
Эти слова были сказаны Серовым в 1907 году.
В 1917 году Петроград посетила большая финская делегация, среди которой были общественные деятели, писатели и художники.
Я всегда высоко ценил финское искусство и особенно творчество таких художников, как Галлен, Эдельфельд, Галонен. Галлена я считал мировым художником и часто любовался его работами. В последний раз я был в Гельсингфорсе в 1926 году и в музее попрежнему восторгался Галленом.
Максим Горький был в большой дружбе с этим художником и часто говорил мне о нем. На банкете в честь финской делегации я увидел Галлена, который уже одной своей внешностью, очень красивой, произвел на меня сильное впечатление. Он был очень высокого роста, необычайно плечист, от него веяло силой и здоровьем. Галлен первый подошел ко мне познакомиться и сказал, что он видел у Горького мой портрет Шаляпина, написанный на Капри, в 1911 году. Портрет ему понравился, и он восторженно хвалил его, сказав, что «Шаляпин написан гениально».
Я был очень счастлив, что Галлен, художник мирового значения, с очень высоким авторитетом, так похвалил меня.
Мне трудно наметить отдельные циклы моих работ дореволюционного периода. Мое творческое развитие было ровным, без зигзагов, без крутых поворотов, намечающих отдельные «периоды» творчества. Я не болел увлечением «французами» или «примитивистами», не сбивался на всякого рода штукарство, потому что глубоко верил в правильность своего пути.
Систематическая работа над собой, настойчивость и упорство развивали мое природное дарование и приносили мне успехи, которые еще более укрепляли мою веру в правдивое, реалистическое искусство.
Моя дружба с Репиным продолжалась и по окончании академического курса и после моих заграничных поездок.
Он бывал у меня всегда, когда приезжал в город, просматривал мои работы, а я часто бывал у него в Куоккала, в Финляндии.

И. Е. Репин и И. И. Бродский в «Пенатах» в Куоккала. Фотография 1926 г.
У Репина среды считались приемным днем. В этот день в «Пенатах» собирались все его друзья, а иногда и посторонние люди, совершенно ему не знакомые, так как каждый мог приехать к нему в среду без предупреждения. У Репина часто бывали скульптор И. Гинцбург, артист П. Самойлов, писатель К. Чуковский, А. Ф. Кони, И. Ясинский, С. Грузенберг, К. Льдов, Н. Кравченко, И. Тарханов, В. Бехтерев и много других ученых, писателей, артистов и художников. Я также каждую среду ездил к Репину. Обычно нас собиралось тридцать-сорок человек. В мастерской происходили интересные беседы. Репин показывал свои последние работы и просил их критиковать. Когда его кто-нибудь хвалил, он был очень застенчив и всегда говорил:
«Ах, вы хвалите напрасно! Это плохо, я недостоин».
Репин любил музыку, и его друзья доставляли ему это удовольствие. После импровизированного концерта все шли обедать.
У Репина был очень интересный обеденный стол с круглой вертящейся серединой, на которую ставились блюда. Все мы усаживались вокруг стола, и каждый вертел этот круг до тех пор, пока блюдо, которое он хотел, не доходило к его месту. Таким образом гости обходились без помощи прислуги; Репин и его жена Нордман-Северова проповедовали «раскрепощение прислуг», с ними они обращались как с равными, приглашая их к столу вместе со всеми.
За обедом шла оживленная беседа. Был обычай, если кто-нибудь неправильно повернет стол, либо по ошибке возьмет чужую вилку, на него налагался штраф. Провинившийся гость должен был произнести речь на любую тему. Мы старались штрафовать Чуковского, потому что он произносил интересные и блестящие по форме речи, и Репин любил его слушать.
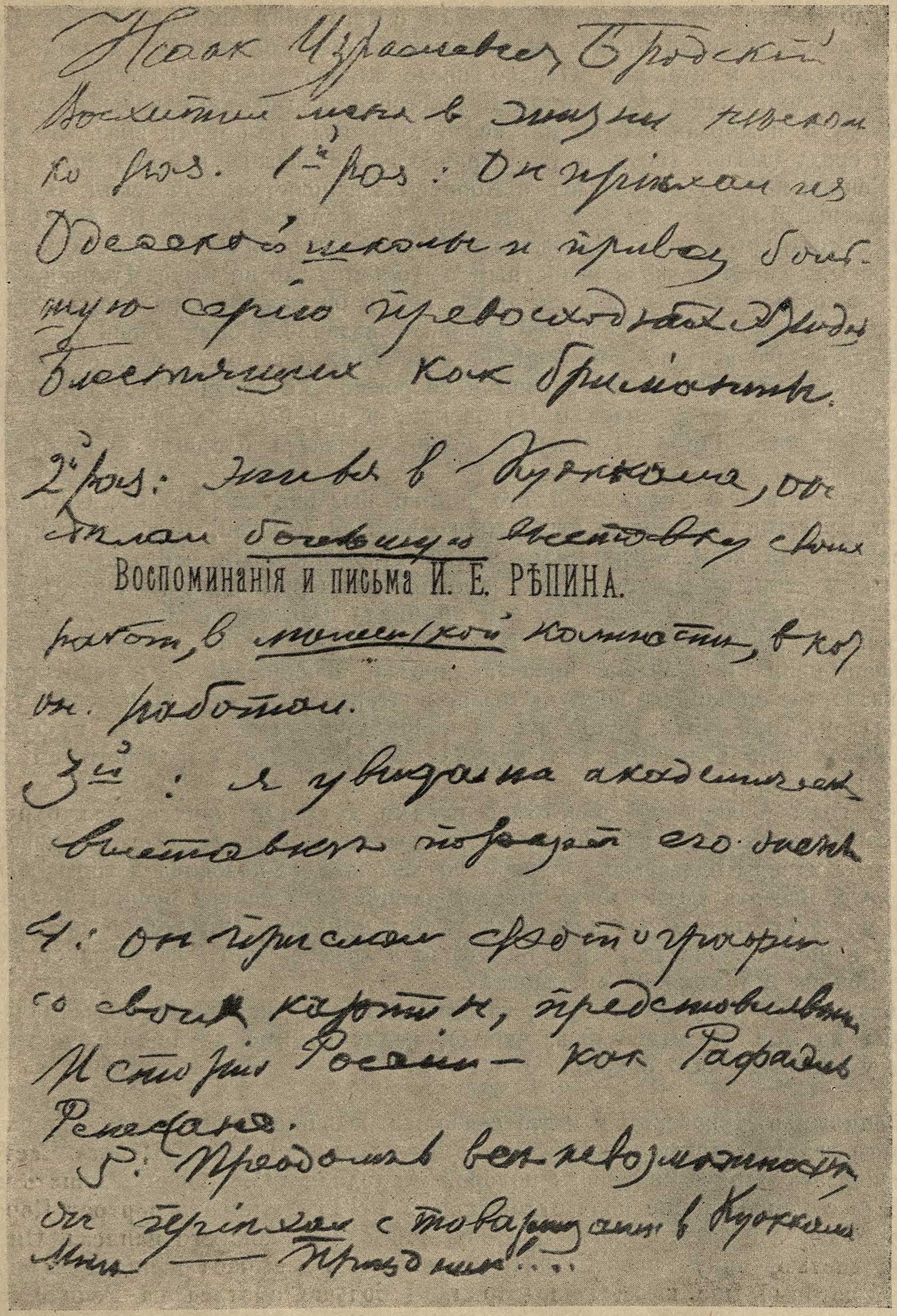
Надпись, сделанная И. Е. Репиным в 1926 г.
Время проходило очень весело и оживленно; обыкновенно у Репина мы засиживались до десяти часов и затем уезжали с последним поездом. В «Пенатах» нас кормили вегетарианской пищей, знаменитым «сеном», из которого делались вкусные блюда — котлеты и бульоны. Однако после такого обеда очень быстро хотелось есть, и мы, добравшись до станции Белоостров, с жадностью накидывались в буфете на колбасу и пожирали в один миг все бутерброды. Буфетчик знал, что у Репина каждую среду бывают гости, и уже заранее приготовлялся к этому дню.
У Репина я часто встречался с Корнеем Ивановичем Чуковским. В «Пенатах» он неизменно был центром всех репинских собраний и обедов. На «средах» всегда звучал симпатичный голос Чуковского. Корней Иванович был самым остроумным, самым веселым, самым жизнерадостным из гостей. Если не было Чуковского, Репин скучал, жаловался, что ему кого-то не хватает, и он моментально посылал за Чуковским, который, появляясь, сразу же вносил оживление. Репин очень любил Корнея Ивановича за его веселье, неистощимое остроумие и высоко ценил его как умного собеседника, с которым делился своими сокровенными творческими замыслами.
Я тоже очень подружился с Чуковским, и мы часто ходили с ним на берег Финского залива. Зимой Чуковский очень увлекался буерами и втянул в этот спорт меня.
Чуковский всегда, сколько я его помню, был окружен детьми. Обычно он затевал с ребятами различные игры, много возился с ними, и всегда там, где раздавался детский шум, можно было найти Чуковского. Он часто играл с детьми около своей дачи, на берегу залива, строил с ними разные крепости, затевал увлекательнейшие игры, в которых он сам принимал главное участие.
Чуковский познакомил меня с Владимиром Маяковским, творчество которого он высоко ценил и всячески пропагандировал. Маяковский жил некоторое время в Куоккала, где он написал поэму «Облако в штанах». Бывая с Чуковским у Репина, он читал ему свои стихи; Репин, всегда непримиримо относившийся к футуризму, сумел объективно отнестись к творчеству Маяковского, у которого он находил много интересного.
В те годы Маяковский вместе со своими друзьями «эпатировал буржуазию» странными выходками, конфликтами на вечерах и вообще всем своим поведением, начиная от манеры одеваться. Он носил штаны, каждая половина которых была разного цвета. Все это вызывало во мне возражение, но я многое прощал Маяковскому за его исключительную талантливость и большой ум. При всей разности наших натур и нашего творчества, мы с ним были в дружбе, часто встречались на «средах» у Репина и у меня на «четвергах».
И позже, уже после революции, каждый раз, приезжая из Москвы, Маяковский приходил ко мне. Чувствовалось, что он ценит во мне какие-то качества, хотя вообще у нас было мало общего.
С Репиным и Чуковским я часто совершал большие прогулки по взморью, особенно в те два лета, когда я жил на даче в Куоккала недалеко от «Пенат». Часто к нам присоединялась Лариса Рейснер, с которой мы ходили в Сестрорецк слушать музыку.
Вместе с Репиным мне посчастливилось в 1912 году писать портрет Короленко. Я вспоминаю, как Репин начал портрет и в один сеанс его написал. Он сделал рисунок кистью, минут в пятнадцать наметил и в два часа написал выдающийся портрет, который мне казался шедевром. Я больше смотрел на Репина, как он пишет, и поэтому моя работа шла гораздо медленнее. Здесь была настоящая школа, и хотелось проследить весь творческий процесс мастера.
В другой раз мы начали писать друг друга одновременно. Однако мы увлекались работой и забывали, что нужно позировать, и поэтому вскоре договорились писать отдельно. Мне удалось сделать в один сеанс так много, что Репин не знал, как и хвалить меня.
— Это сделано гениально! Так написать мог только ван Дейк! Браво! Браво!
Портрет он показывал всем гостям и несколько дней не мог успокоиться. Даже в письмах к своим друзьям он излагал свое восхищение портретом.
«С меня начал писать портрет И. И. Бродский, хорошо взял и интересно ведет; сходство полное! Я вижу себя и восторгаюсь техникой. Простота, изящество, гармония и правда, правда выше всего; и как симпатично... Дай бог ему кончить, как начал. Да, он большой талант!» — это строки из написанного в августе 1912 года письма Репина к художнику С. М. Прохорову.
После первого нашего сеанса прошла неделя. Краски за это время просохли, и я стал писать уже по сухому. Почему-то работа у меня не клеилась; быть может, опасаясь испортить начатое, я работал неуверенно. Когда Репин взглянул на портрет, он так огорчился, что даже застонал.
— Что вы сделали?! Ах, что вы сделали? — И так же горячо, как раньше хвалил, теперь он ругал меня, гневно топал ногами и расстроился на весь день, уверяя, что я испортил все хорошее, что было сделано раньше.
Вечером мы пошли в местный театр, и Репин всю дорогу со мной не разговаривал. Вдруг, во время спектакля, он схватил меня за руку и, ни слова не говоря, насильно вывел из театра. Держа попрежнему меня за руку, Илья Ефимович быстро зашагал по направлению к своему дому. Я еле поспевал за ним. Когда мы очутились у него в мастерской, было уже темно, он нервно зажег керосиновую лампу, вмиг достал мой портрет, раздобыл вату и скипидар и тотчас же начал смывать все, что я сделал в этот день.
— Того, что было, — не восстановишь, но это лучше, чем то, что вы сегодня сделали, — сказал он и опять стал ругать меня, но потом успокоился и как бы помирился со мной.
Этот трогательный эпизод замечательно характеризует Репина. Сидя в театре, он не мог успокоиться, зная, что его ученик испортил работу. Так поступить мог только такой энтузиаст и гениальный художник, каким был Репин.
Этот человек был с удивительным темпераментом. Помню очень интересный случай. Помимо сред Репин никого не принимал в другой день. Но однажды ко мне приехали два московских коллекционера и стали меня уговаривать, чтобы я с ними поехал к Репину, работы которого они хотели приобрести. Я стал уверять, что Репин нас не примет, нужно ждать до среды, но они настаивали: «Вы его любимец, вам он, наверное, не откажет».
Я согласился. Мы приехали к Репину. К нам вышла горничная и заявила, что сегодня не приемный день. Я попросил ее доложить, что приехал Бродский с москвичами. Нам открыли дверь, мы вошли в вестибюль. Репин работал у себя наверху в мастерской; он закричал нам:
— Исаак Израилевич, очень рад, подождите, я скоро спущусь.
Прошло минут пять, и вдруг Репин, разъяренный, несется по лестнице и кричит:
— Как вы смели сегодня приехать, вы ведь знаете, что я принимаю только по средам!
Он топал ногами, ругался и кричал:
— Да как вы смели приехать не в среду!
Я смотрел на Репина и не знал, куда деваться. А между тем мои москвичи, один за другим, незаметно скрылись. Оказалось, что Репин в то время, когда мы приехали, писал портрет женщины, одной артистки, которая ему очень нравилась, и, вероятно, нервничая оттого, что его ждут, он что-нибудь испортил в работе. Это и было причиной его гнева, с которым он обрушился на нас.
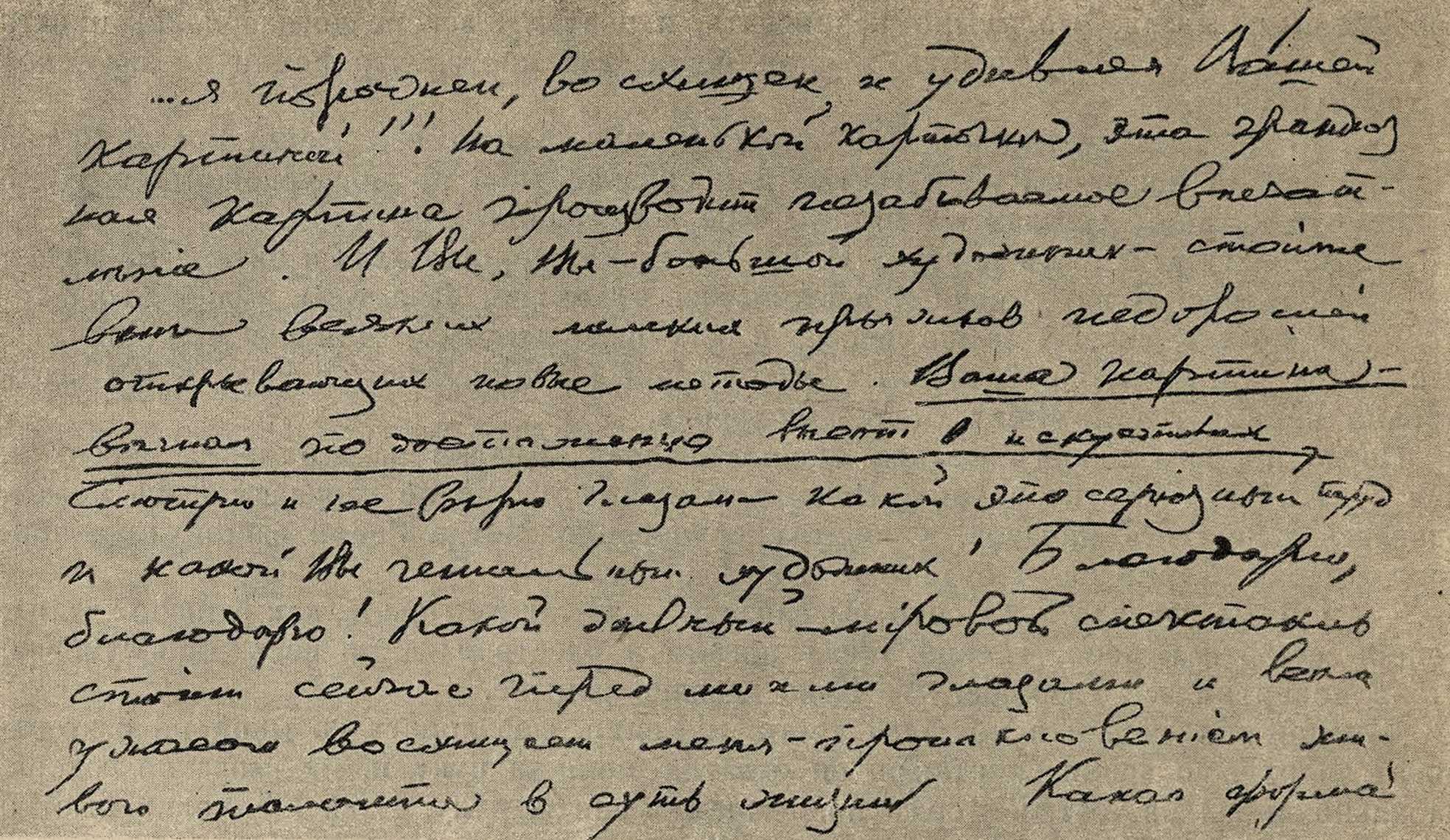
Из письма И. Е. Репина и И. И. Бродскому 1926 г.
В следующую среду я не знал, ехать ли мне к нему, но, наконец, решил поехать. Мне было интересно, как встретит меня Репин после такой сцены. Когда я приехал, он меня тепло встретил, обнял, расцеловал и извинился, что так получилось. Наш конфликт был исчерпан; с тех пор я приезжал к Репину только по средам.
Особа, которая ему позировала, мне рассказала, что у него что-то не получилось в работе и она с ужасом видела, как он бросил кисть и, как зверь, полетел по лестнице вниз. Ей казалось, что он нас изобьет.
Оратор Репин был не блестящий, но когда говорил, то очень увлекался, чувствовался нерв художника, очень эмоционального. Вспоминается его выступление на еврейском кладбище в Петербурге на открытии памятника Антокольскому. На памятнике была надпись: «Марк Матвеевич Антокольский». Репин взял слово и с возмущением стал говорить, что настоящее имя Антокольского не Марк, а Мордух, и безобразие искажать красивые библейские имена: это унижает евреев. И он стал вспоминать другие имена художников, которые, по его мнению, напрасно стесняются своего еврейства.
Об этом Репин говорил не раз и всегда очень горячо и правдиво.
Он на все реагировал очень остро. Однажды я и Чуковский поехали вместе с Репиным на несколько дней в Гельсингфорс осмотреть музей. Больше, чем на картины, мы смотрели на Репина. На него обращала внимание вся публика. Если ему картина не нравилась, он начинал ругать ее автора и кричать на весь зал, казалось, что он способен был разрезать картину; но если ему вещь нравилась, он умилялся до слез.
Необычайно его растрогали работы Эдельфельда, которого он воспринимал с особенной нежностью. Его замечания были очень интересны, он, как ученик, смаковал каждую хорошо сделанную деталь, каждую складку, каждую мелочь. Посещение с Репиным музеев было для меня хорошей школой; многое я начинал видеть по-новому.
Трудовой день Репина был строго расписан, а режим труда правильно организован. Илья Ефимович выработал для себя трудовой распорядок и вел спартанский образ жизни. Он рано вставал и сразу же принимался за работу. Вечерами редко засиживался — всегда спешил домой. Рядом с мастерской у Репина была крохотная спальня, в которой он ночевал зимой в меховом мешке при открытых окнах.
Часто можно было застать Илью Ефимовича в саду за работой, с лопатой в руках. Он любил физический труд и занимался им до глубокой старости.
Всегда и везде — в поезде, трамвае, кафе — можно было видеть Репина с альбомом в руках, делающего зарисовки. Альбом был его вечным спутником, он заносил в него все, что привлекало его глаз. Если не было под рукой карандаша, он мог рисовать чем угодно — спичкой и даже окурком. Помню, на вечерах у Чуковского много таких рисунков он занес в альбом Корнея Ивановича — «Чукоккалу», — буквально поражая всех своей необычайной техникой и разнообразием приемов.
Работать, писать, рисовать — это было для Репина органической необходимостью.
К сожалению, я не записал многих разговоров Репина, всегда очень интересных. Даже отдельные фразы, брошенные им случайно, запоминались своей остротой.
Помню, приехав в Венецию, я встретил там Репина. Мне запомнился наш разговор.
— Илья Ефимович, — спросил я, — не знаете, где здесь поблизости хороший ресторан?
— Идите в тот ресторан, — сказал он, — куда больше всего ходит народу, — значит, там вкусно кормят. А если понадобится врач, то идите к тому, у которого есть собственный дом, — значит, у него есть большая практика и, значит, он хороший врач.
Политические взгляды Репина всегда были оппозиционны царскому правительству. Он рассказывал мне, как однажды вместе с художником Галкиным писал портрет Николая II и во время сеанса завел с ним разговор о политике и стал искренно высказывать свое мнение о проводимых правительством репрессиях. Николай II резко одернул его фразой: «Вы еще смеете рассуждать!»
После этого сеанса Репин больше во дворце не появлялся и всегда с отвращением вспоминал о «самодержце всея России», с гневным презрением обзывая его тупицей и бездарностью. Как только мы начинали разговор о политике, он всегда сводил разговор к Николаю II и со свойственной ему «репинской» яростью накидывался на него, не жалея оскорбительных слов по его адресу.
В 1917 году, после февральской революции, когда на поверхность всплыл Керенский, Репин, подогретый газетами, превозносившими этого «героя», захотел написать его портрет. Он попросил меня, чтобы я это устроил. Не помню, через кого, мне удалось получить согласие Керенского позировать Репину, и заодно он разрешил писать и мне.
Адъютанты Керенского доставили нас к нему в кабинет, в котором раньше находилась библиотека Николая II.
Мы приступили к работе: Репин писал с него небольшой этюд, в ручном ящике, а я рисовал углем.
К Керенскому приходили Брешко-Брешковская, генерал Корнилов и министры Временного правительства. Однажды, во время нашего сеанса, секретарь доложил Керенскому о том, что во дворец явилась делегация от двенадцати тысяч георгиевских кавалеров, которая просит, чтобы он ее принял. Керенский, кокетничая, сказал, что он очень занят, но затем разрешил впустить к себе представителей делегации.
Все были поражены, когда юнкера внесли в кабинет нескольких инвалидов, лишенных рук и ног, и поставили их на пол. Это были герои войны, у которых на груди красовались георгиевские кресты и медали всех степеней. Керенский принял наполеоновскую позу и, глядя сверху вниз, выслушал просьбу делегатов присутствовать на их митинге в Народном доме. Сказав что-то напыщенное, он дал им свое согласие.
Делегатов унесли. Керенский предложил нам поехать с ним на этот митинг. Репин поехал, а я, не помню почему, на митинге быть не смог.
Наш сеанс происходил за месяц до октябрьского восстания. Керенскому было уже не до нас. Мой рисунок остался во дворце и там пропал. Репин по своему этюду сделал большой портрет Керенского, который он подарил в 1926 году Ленинградскому Музею революции.
После Октября Репин оказался отрезанным от Советской России. Моя связь с ним прекратилась надолго.
В 1926 году, когда возник вопрос о приезде в СССР Репина, правительство, по инициативе К. Е. Ворошилова, командировало в Финляндию делегацию художников — меня и руководителей АХРР Кацмана и Радимова.
Долгое время Репин жил в полном неведении относительно того, что происходит в нашей стране, о которой у него составилось самое искаженное представление вследствие стараний окружавших его эмигрантов.
Дикие нелепости рассказывали ему «очевидцы», очень заинтересованные в том, чтобы лживыми слухами обратить великого старика в свою веру. Увидев меня живым и здоровым, Репин был очень удивлен, так как был уверен, что в СССР все его друзья давно расстреляны.
Приехав к Репину, мы сразу же столкнулись с окружавшим его гнильем: паршивыми белогвардейскими подонками, мелкими, опустившимися людишками, которые старались изо всех сил чем угодно нагадить Советскому Союзу. Там были: бывший полицмейстер Васильевского острова, бывший градоначальник и другие «бывшие», а теперь жалкие ничтожества, жившие воспоминаниями о царской России.
Попрежнему по средам у Репина собирались гости, но среди них не было людей, способных рассказать ему истинную правду о большевиках. Беседа с нами разрушила многие нелепости, которым он верил. Репин с жадностью слушал о том, что произошло в России за эти годы. Мы рассказали ему о советском государственном строе, о людях, вышедших из самых низов и ставших государственными деятелями, об огромной тяге народа к культуре, знаниям, о положении искусства, о художественной жизни.
— Ах, как это прекрасно! — восклицал он при каждой удивлявшей его новости. Какие здоровые основы! Как разумно!
Он чувствовал прекрасное равенство в слове «товарищ» и искренно восторгался многими преобразованиями в нашей общественной жизни.
Мы привезли Репину несколько книг, вышедших у нас в СССР, и отдельные статьи об искусстве А. В. Луначарского, П. С. Когана и других. Илья Ефимович жаловался, что ему трудно читать: глаза уже плохо видят, а память начинает изменять. В заключение нашей беседы мы услышали от него признание:
— Как послушаешь да все пообдумаешь — будешь осторожнее в своих выводах...
Мы прожили в «Пенатах» два дня, затем поехали в Гельсингфорс, а на обратном пути опять остановились у Репина. Мы имели две тысячи долларов для приобретения у него работ, и по существу это оказалось неплохой помощью Репину. Кроме проданных нам вещей, Репин передал в подарок Ленинградскому Музею революции два эскиза на революционные темы — «1905 год» и «Самодержавие» («Царская виселица»), а также ранее упомянутый портрет Керенского.
Ехать к нам в Советский Союз Репин сначала не соглашался, говорил, что он никому уже не нужен и что среди художников есть группа, которая относится к нему враждебно. Действительно, «леваки» (в числе которых были люди, позже разоблаченные как враги народа) вели большую кампанию против Репина. Я стал убеждать Илью Ефимовича в большой любви трудящихся нашей страны к его творчеству. Наш разговор происходил в саду, в котором мне все напоминало о прежнем Репине, о старой нашей дружбе и встречах. Илья Ефимович сердечно говорил мне о своих сомнениях, но потом протянул руку в знак того, что он согласен.
Через некоторое время после нашей поездки к Репину в Ленинград приехал его сын, художник Юрий Репин. Он жил у меня в течение двух недель, и я успел показать ему много нового. Ездил с ним на заводы, повез в Смольный, где познакомил его с Сергеем Мироновичем Кировым, по инициативе которого Юрию Репину был дан заказ написать к десятилетию Октябрьской революции картину «Самодержавие» по эскизу его отца.
Илья Ефимович письменно изложил мне содержание этой картины:
«Колоссальный темный грот представляет подобие тронного зала, украшения по стенам, карнизам и углам представляют человеческие кости, весь великолепный мозаичный пол завален трупами. К правому углу группируются виселицы. Ближайшая виселица занята повешением молодой особы (тип курсистки). Палач, в красной рубахе, затягивает на шее петлю, справа административное лицо — камергер, тип Победоносцева. Слева представитель духовенства, в пышном наряде, вроде митрополита благословляет смертную казнь. В отдалении глубины влево — две фигуры рыцарского кавалергардского блеска.
Все эти фигуры выиграют, когда он [Юрий] нарисует их в натуральную величину. И, вообще, вещь эта, по мере того как он ее будет выполнять, будет его самого увлекать. И мне кажется, вы не прогадаете».
Илья Репин».
Сергею Мироновичу Кирову я изложил мысль предложить Репину разобрать его дом в Куоккала и вместе со всем имуществом перевезти в Ленинград, в б. Михайловский сад, прилегающий к Русскому музею. Сергей Миронович одобрил это предложение, а Репин, узнав о нем, был очень растроган.
С пребыванием Юрия Репина в Ленинграде связано много приключений. В первый же день его приезда мы пошли в Михайловский театр на спектакль московского Еврейского театра. В антракте, когда мы подошли к буфету, какие-то жулики, воспользовавшись суетой, вырезали у Юрия Репина карман и украли бумажник, в котором находилась вся его валюта. Утром на другой день, надевая пиджак, он заметил исчезновение бумажника и, придя на кухню, многозначительно заявил домработнице: «Я вам прощаю! Можете тратить, как хотите». Та в недоумении: «Что тратить?» — «Вы взяли деньги, можете тратить, я не сержусь». Домработница со слезами на глазах стала отрицать кражу денег.
Увидев вырезанный карман, Юрий Ильич убедился, что виноваты жулики. Вместе с ним мы пошли в уголовный розыск, по дороге я его все время уверял, что деньги будут найдены.
Я рассказал начальнику уголовного розыска о том, что произошло, и о том, какими последствиями может быть чреват этот инцидент. Юрий Репин был посланцем своего великого отца в Советскую Россию, и получилось так, что его здесь в первый же день обокрали.
Нам показали несколько альбомов с фотографиями карманщиков. Я стал перелистывать альбомы, но вспомнить лицо, показавшееся мне в театре подозрительным, не мог.
На следующий день утром мне позвонили из угрозыска и сообщили: «Приходите, деньги найдены». Юрий Репин был в восхищении от такой работы уголовного розыска, но денег долго брать не хотел и просил дать ему подписку, что «никто арестован не будет».
Религиозные убеждения и «толстовство» Юрия Репина делали его чудаковатым, отрешенным от мира человеком. В голове у него была большая путаница, которая метала ему правильно разобраться в политических вопросах.
Советскую Россию он воспринял по-обывательски. Свои первые впечатления о ней он излагал отцу в письме такими словами:
«На первой же остановке после Белоострова я увидел торговку семечками. Спрашиваю у нее, сколько стоит стакан. Три копейки. А раньше он стоил одну копейку — значит, жизнь вздорожала в три раза» и т. д.
Вокруг Ильи Ефимовича велась все время большая борьба. Очень отрицательно влияла на него дочь Вера, вышедшая замуж за белогвардейца, настроенная враждебно к советской власти.
Но с каждым годом крепли связи Репина с Советским Союзом. Он часто переписывался с крупнейшими представителями нашей культуры — академиками И. П. Павловым, А. П. Карпинским, скульптором И. Я. Гинцбургом, А. В. Луначарским и другими. Он не покидал мысли о своем возвращении в Россию, но переезд откладывал до более благоприятного времени, когда его физическое состояние станет лучшим.
Замечательной была переписка Репина с К. Е. Ворошиловым.
Вот интересный отрывок из письма Репина ко мне:
«Вчера я получил письмо от тов. Ворошилова... Дивное письмо! Я считаю себя счастливым, получив автограф высокой ценности и признание моих заслуг представителем величайшей страны, имеющей такие заслуги перед человечеством. Другие страны никогда не поднимались на такую высоту. Завещаю отдать письмо Ворошилова на хранение в музей».
Незадолго до кончины Ильи Ефимовича я получил от него письмо, в котором он писал о приближении смерти:
«...О себе скажу: я догадался, что надо мне делать, — пора юноше понимать возможности своего возраста. Я просто в продолжение всей зимы делал себе каникулы. В самом деле, я столько наработал, что пора и отдохнуть, и я так привык к своему отдыху, что только теперь, когда у меня в мастерской наверху, в нетопленной, уже 12 градусов тепла, я подымаюсь и без заботы о работе философствую о суетах мира, развратившегося до потери разума, а следовательно, доведшего свое существование до полной гибели... Ах, если бы на месте моей Шехерезады,¹ которая уже снята, вырос бы кратер Везувия, с каким бы радостным ребяческим скачком я скакнул бы туда!..
____________
¹ Деревянная вышка в конце аллеи сада.
Вот наслаждение! Это исчерпало бы все, главное, никого не беспокоил бы я своим необходимым естеством — копать мне могилу и расходоваться на все ненужное по части похорон».
Восьмидесятилетний старец Репин продолжал помногу работать: когда он умер, на его мольберте стояла недописанной картина «Гопак» — тема, навеянная музыкой Мусоргского, радостная, полная молодости и жизни. Уезжая из Куоккала, я получил в подарок от Репина сделанный из кости ковчежец для писем и книгу его статей с теплой надписью.
Прошедшая недавно выставка произведений Репина, организованная Всесоюзным комитетом по делам искусств в Москве, Ленинграде и Киеве, воочию убедила меня в огромной жизненной силе искусства этого замечательного художника.
Творчество Репина не устарело. Это живой, сильно действующий фактор. Повышенное внимание к Репину тесно связано с общими устремлениями нашего искусства к реализму, еще более мощному по своим формам и высокой идейности.
Много лет формалисты вели упорную борьбу против Репина, но Репин победил. Многие из бывших его врагов сейчас клянутся ему в верности, даже те, кого сам Репин называл «нахальными недоучками», «вольномажущими красками», а их произведения — «ничтожными, бездарными малеваниями». Огромная любовь к труду, к упорной, не знающей отдыха работе будила в Репине ненависть к пустому жонглерству тех «неучей», которых он зло окрестил «мазилами» и «карликами».
Не было другого художника, который бы так горячо протестовал против формалистического искусства и в то же время так много в своем творчестве уделял внимания вопросам формы. Чувство цвета, любовь к красоте, к живописной поверхности были развиты у него необычайно. Именно эстетическое отношение к искусству сильно выделяло его из ряда других художников передвижнического лагеря. Палитра этого живописца была такой многообразной, свежей и жизненной, а карандаш его — таким послушным и таким богатым своими техническими возможностями, что, казалось, художник мог без труда преодолевать любые трудности. Но эта видимая техническая легкость была результатом огромной, каждодневной работы над собой, постоянной тренировки глаза и руки, результатом той большой и серьезной школы, которую прошел Репин. Он оставил после себя большое количество альбомов с хорошо проштудированными анатомическими рисунками. В годы молодости он не считал возможным лечь спать, не нарисовав с гипсового слепка голову Аполлона. В своих заметках («Мысли об искусстве») он писал: «И при гениальном таланте только великие труженики могут достигнуть в искусстве абсолютного совершенства форм. Эта скромная способность к труду составляет базу всякого гения».
Мастерство Репина опиралось на тщательное изучение натуры, на глубочайшее проникновение в человека, в его психологию, в его жизнеощущение. Отсюда такая правдивость созданных им образов, такое многообразие характеров, типов и такая необыкновенная мощь его яркого реалистического языка.
Репинское понимание искусства и роли художника близко нам своим общественным характером и подлинным демократизмом.
Интересно, что в 1914 году Репин задумал создать у себя на родине, в г. Чугуеве (УССР), трудовую народную академию художеств — «Деловой двор», дворец прикладного искусства, где «вместо нищих, самоубийц и хулиганов» готовились бы «ратники труда и красоты», идея, которая не могла найти осуществления при старом социальном строе. «Так как я по натуре своей, по воспитанию и долгой практике собственно мастеровой человек, то и проект мой вовсе не школа, а мастерская... Но первое и последнее крепкое условие: никаких прав, мастер — высшее звание и единственное», писал он.
Традиции репинской живописи с особой силой воспринимаются в наши дни. Советские художники должны почерпнуть в наследии этого мастера его огромный опыт, совершенную технику и непреклонную волю к достижению трудных высот искусства.
6 ноября 2023, 15:08
0 комментариев
|
Партнёры
|






Комментарии
Добавить комментарий