|
|
В. Горный. «Петяш». Иллюстрации Г. Клуциса и В. Кулагиной. 1926 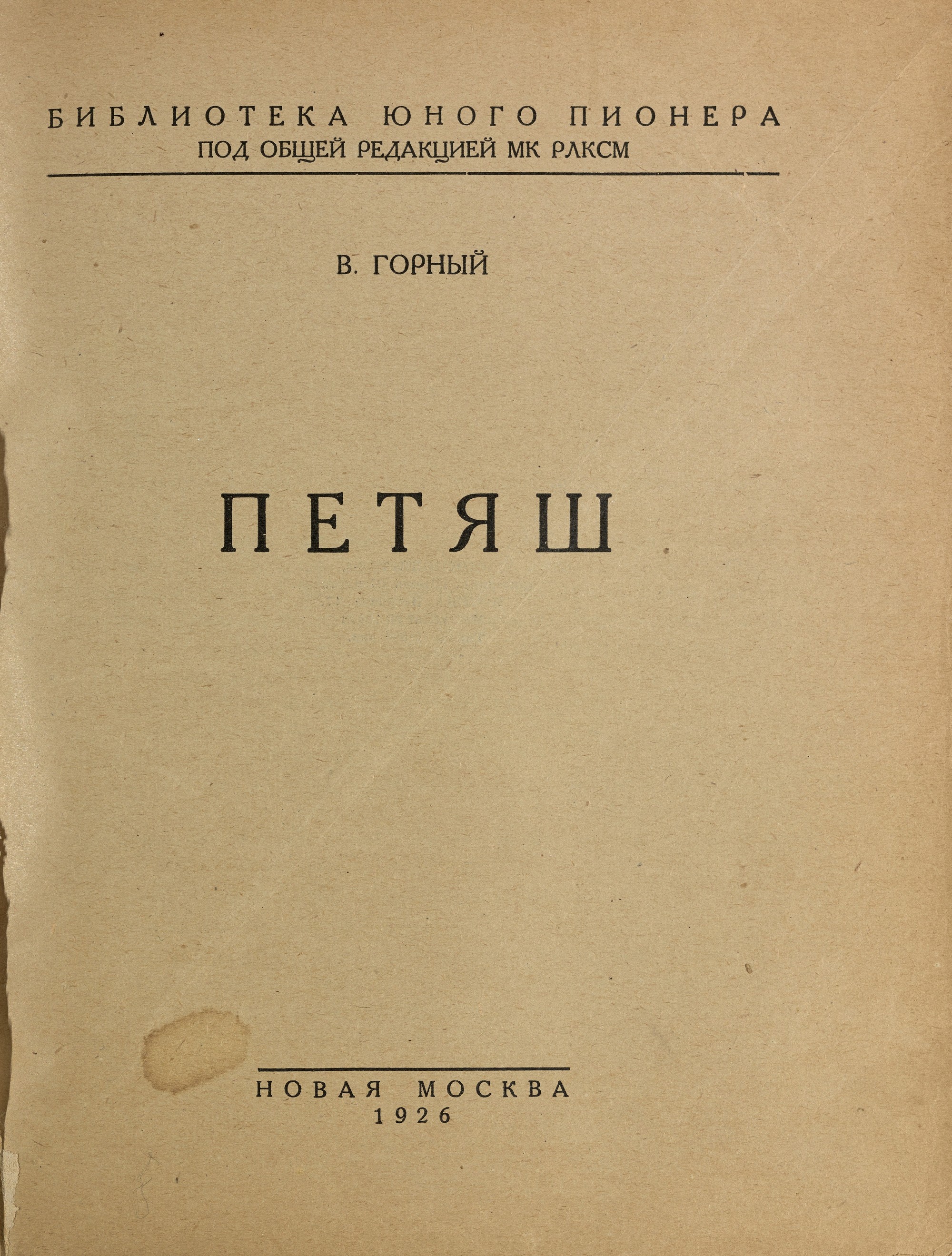
Рассказ «Петяш» В. А. Савина вышел в свет в 1926 году в издательстве «Новая Москва». Произведение посвящено становлению новых постреволюционных условий хозяйствования и социальных отношений в отдельно взятой деревне. Катализатором изменений выступает «фабзайчик» Петя Травин, приехавший в деревню на отдых из Москвы, где он одновременно учится и работает в соответствии с новейшими принципами «единой трудовой школы». На первой ступени единой трудовой школы преподавались основы различных видов ремесел. На второй ступени на первый план выдвигается промышленный и земледельческий труд в его современных машинных формах. Целью трудовой школы было политехническое образование, дающее детям на практике знакомство с методами всех важнейших форм труда, частью в учебной мастерской или на школьной ферме, частью на фабриках, заводах и т. п.
Издание иллюстрировано художниками-авангардистами Густавом Клуцисом и Валентиной Кулагиной. Иллюстрации выполнены в технике фотомонтажа. Ниже мы публикуем факсимильный скан книги и её полнотекстовую версию со всеми иллюстрациями.
Петяш / В. Горный ; обложка и иллюстрации худ. Клуцис. — Москва : Издательство „Новая Москва“, 1926. — 88 с., ил. — (Библиотека юного пионера под общей редакцией МК РЛКСМ).[Страницы с иллюстрациями]
кликабельно
1
У-у-у.
Подбегая к семафору, кричал поезд. Платком белым махал.
— Иду-у-у...
На платформу высыпали мужики, бабы. С мешками, с котомками все. Билеты в карманах держат, в руках их мнут, чтобы не потерять, чтобы не остаться. А среди них старик седой толчется в лаптях. Тоже на поезд глядит, шапку снял. Кнут в руке держит.
— Ты, дедушка, что? — спрашивает его баба в сапогах.
— Внука, родимая, жду, — внука.
— Солдат что ли он? В отпуск едет?
— Нет, учится он в Москве.
— На кого учится-то?
— Я и сам не знаю, родимая, не знаю. Фабзайчиком называет себя. Пишет нам со старухой, что половину время учится, а половину работает в мастерских... Замки может делать, ключи и все такое, касательно железа.
— А, — сказала баба, — на механика, значит.
И взвалила мешок на плечи.
Поезд подлетел, будто здоровенный кулак под нос станции подсунули. Рельсы погнулись под ним и задрожали, будто нитки белые, натянутые. Швыркнул он перед мужиками и замелькал вагонами. Все бросились на подножки. А старик отошел в сторону и заглядывает в каждую дверь вагона. Ветер его белую бороду на плечи разогнал.
— Слепой стал, плохо вижу, не проглядеть бы Петеньку,— шептал он. — Пешком не удрал бы.
— Дедо-о, — донеслось до его ушей.
— Ай меня, кажется, кличут? — встрепенулся он.
— Дедо-о... Вот я.
Из вагона выходит парень. Черная шапочка на нем и зеленые штаны до колен. Шея платочком красным перевязана. Бледный сам, черноглазый.
— Здравствуй, дедушка.
— Здравствуй, Петяш... Где же багаж-то у тебя?
— Багаж? А вот.
Узелочек маленький показал.
— Ну и багаж. А я думал — у тебя сундук целый. Что это у тебя в узелочке-то этаком?
— Газеты да книги.
— Фу ты, а я думал — белье.
— Зачем оно, белье-то, летом? Летом и без белья жарко, потеешь только в нем. У нас в Москве все ребята без белья ходят. А без книжек нельзя. И без газет тоже. У меня тут все декреты завязаны.
— Декреты? На што они тебе?
— Надо... Понадобятся. На целое лето приехал я. Может, мужикам кой-чего разъяснить придется.
— Оно пожалуй, — согласился старик. — Много у нас делов таких, которые без декретов не разберешь... Ну, давай, поедем. Старуха тебя ждет. Пирогов с грибами напекла, любимых твоих, да шанег с творогом.
Поезд подлетел...
В. Кулагина
За станцией лошаденка пегая стояла, в рыдван запряженная.
— Садись, — говорил старик. — В жупан завертывайся, а то холодно еще, — снега в оврагах лежат, сырость в воздухе.
На овраг указал, за который поезд скрылся. Снега лежат в овраге, будто гуси вышли на желтую траву, прошлогоднюю. Холодок оттуда.
— Не замерзну я, — говорил Петька. — Я к морозу привык. Зимой обливание холодной водой делал. Кругом лед, а я под краном стою.
— Пошто так делаешь, — упрекнул старик. — Простудиться можешь, умереть.
— Э... умереть.
Глаза засверкали у Петьки.
— Да я такой сильный, такой крепкий от этого, что меня никакая болезнь не возьмет, будь она самая злющая. Во у меня какие мускулы.
Рукава засучил, мускулы показывая.
— Смотри, дедо.
Как мышонки бегали мускулы. Отмахнулся старик от Петькиного задора. Сел рядом с ним на жупан — и поехали.
— Ну, ну, — жилился старик, на лошаденку покрикивая. — Ну родимая. — Кнутом ее стегал. А она только хвостом вертела, отмахивалась от кнута, ровно от овода, беспокоившего ее.
Скорее, как можно скорее, хотелось Петьке в деревню. Скорее повидаться с ней да за дело взяться. А лошаденка трусила только, еле ноги переплетала по дороге, еще не высохшей как следует. От скуки посматривал он на грачей, которые ходили по пашням и червяков выклевывали, на деревеньки, расположенные вдали, за кустарниками, с избушками маленькими, похожими на кучи навозные. Закрывал глаза — и Москву видел — город большой, твердо-каменный. Ленинские заветы вспомнил — и наказы, которые перед отъездом в клубе делались.
— Смычку придется налаживать, — говорил он про себя, — город с деревней соединить мостом хорошим, крепким.
Ребята для этого — самые подходящие, — пионеров придется организовать, отряд сколотить. Много работы, о-ох.
— Что ты вздохнул так? — обернулся к нему старик.
— Это я так... Как вы живете, дед?
— Да, ничего... Живем помаленьку. А что в Москве нового? Как насчет смены властей-то?
— Никак. Чепуха все это.
— А у нас говорят...
— Мало ли что говорят. Говорить никому не заказано, особенно, если языки чешутся.
Ехали.
Молчали.
— А ребята кончили учиться? — сонно спросил Петька.
— Кончили.
— А что они делают?
— Что им делать-то? — баклуши бьют.
Об озорстве ребят рассказал старик, — о табаке, о самогонке, — во что втягиваются ребята.
— От жизни этакой... От скуки, от безделья, — пояснил он.
К вечеру на горку крутую выехали. А с нее Черный Лом увидели — село Петькино. Солнце большое, рыжее, как медведь бурый, уходило за него. Линяло, видно, солнце. Шерсть свою рыжую рассыпало везде. Висело оно на куполе золотом, на крышах и на ветках, в саду помещика Лопухина. Дом белый в саду том стоит, будто лебедь плывет в зарослях. Речка, с берегами крутыми, глинистыми, опоясала сад и голову всунула в мельницу большую деревянную.
Фабзайчиком называет себя...
Г. Клуцис
— Вот где жизнь-то, — подумал Петька. — Воздуху-то сколько.
Грудью своей дохнул до отказу. Дух ли унюхал растопыренными ноздрями.
— Дымом тут не пахнет, мазутом не воняет.
Швыркнул носом в себя и выплюнул.
Еще затянулся духом липовым. Нос по ветру направил. Шел липовый дух от пасек, рассыпанных на крутом берегу.
— Дед, — ткнул он старика под бок. — Вон где лагерь-то устроить надо, палатки белые поставить. И воздух хороший, и река рядом. И пляж есть — зашоколадиться можно.
— О чем это ты? — недоумевая спросил дед. — О каких лагерях говоришь? Ай солдат прислать сюда хотят?
— Не солдатский лагерь, а пионерский, я говорю, устроить надо.
— А пиванеры-то хто будут?
— Ребята, свои... Сорганизовать их и в лагерь.
Старик только рукой махнул.
— Не понимаю я тебя, несуразное говоришь.
Петька напыжился, объяснять стал. Уши его надулись, как стружки железные, раскаленные на огне.
— Понятно теперь? — после долгих объяснений спросил он...
— Понятно, — буркнул старик. — Ты вон смотри, как озеро-то пересыхать стало: воды в ем меньше и меньше. Рыбешка переводиться стала, а в эту зиму задохнулось ее много.
— А кто его в аренде держит? — спросил Петька.
На озеро поглядел, на круглое с медными берегами, расположенными за березовой рощей, недалеко от усадьбы, — пристально посмотрел. Показалось Петьке, что солнце линяет, что шерсть от него по озеру плывет.
— А лещи, лещи какие в нем были, — подумал он, — с руку. Раньше помещиково озеро было. Рыбу разводил он в нем породистую. Каждая рыбина с меткой была. За каждую рыбину, пойманную в пруду, народ порол.
Даже спина засаднела у Петьки. Вспомнилось, как до революции выпорол его помещик за то, что леща меченого поймал. Маленький тогда Петька был, с рукавицу.
Кругом лед, а я под краном стою...
Г. Клуцис
— Помещик арендует озеро, — говорил старик. — На пять лет в аренду взял.
— А он еще тут живет?
— Куда он денется. Одурачивает народ, к власти советской присосался.
— А что он делает?
— На зиму — учителем в уезде пристроился, грамотен он... Вот и обучает. А летом — тут, как на даче живет. Владение свое оберегает, к мужичкову добру руку тянет.
— А мужики как?
— Как мужики? Они против, но... Мельница у него. Смелет которому недовольному в первую очередь, — вот и дело заглажено. Еще поблагодарит его мужик.
— А почему в общество не взяли мельницу-то?
— Заикаются мужики на собрании, да не выходит дело. Друзья у Лопухина кругом. Все с деньгой, с мошной. Другой мужик и рад бы побороться, да сила слаба. Вертись не вертись, а нужда — она все к деньгам посылает. Вон и то вчера на собрании скандал был, снова о мельнице дело было.
— Какое?
Старик не успел уж ответить.
Въехали в улицу. Телега заворковала по траве. Мимо бани курной проехали и остановились у старых тесовых ворот.
— Вот и приехали, — сказал старик, слезая.
Старушонка вышла навстречу, старинная, в платочке черном, с белыми горошинками на нем. В сарафане синем, широком, заплетается.
— Петенька, родимый... Давай узелок-то.
Оглядела Петьку глазами маленькими, мышиными.
— Что это у тебя костюм-то какой: чулки долгие и коленки голы?
— Это пионерский, бабушка.
Суетилась.
Бегала.
Самовар закипел в сенях.
А Петька развязывал книги. На пол выкладывал журналы: и „Пионер“ и „Барабан“ и „Юные строители“ с красочными обложками. Потом связку газет, „Известия“, „Правда“ и другие.
— Бабань, а столика нет для книг, вот для этих?
Старуха стояла и глядела на Петьку. Заглядывалась на журналы, на вещички на разные, которыми Петька зубы чистит. Любопытно старухе, в диковинку все, в невидаль.
— Столик-то я тебе, Петя, дам, из-под горшков — на кухне — освобожу. Вымою его, ножом оскоблю — и поставлю тебе его вот в этот, в передний угол. Комнатка тут твоя будет. Дед кровать принесет, поставит ее рядом со столиком, и будешь ты жить у нас припеваючи.
— Во, хорошо-то, — подумал Петька.
Определял что куда, какие вещи на какое место.
— А вот здесь я портрет Ленина пристрою.
Стену оглядел, по которой тараканы ползали, шабуршали в щелях.
Потом в избу мужики нашли. Посидели. Покурили. Поспрашивали Петьку о новостях о московских. Рассказывал им Петька — и пил чай с пирогом и с молоком.
А когда старик принес кровать и установил ее, Петька достал портрет Ленина, изображенного во весь рост, с глазами прищуренными. Повесил его над кроватью, почти рядом с иконами.
Вошла старуха и ахнула.
— Ай... Кого это ты налепил?
— Ленина, бабань.
— Господи, — взмолилась старуха, — со святыми-то рядом? Убери ты его... Мы тебе тут картину повесим... Старик, старик, где ты?
— Чего? — отозвался тот с порога.
— Поди-ка принеси из кладовой „Саровскую пустынь“... Повесь ему.
Ушел старик.
Заупрямился Петька.
— Не надо мне вашу картину... Не люблю я церковное... Религия — дурман.
— Дурман? Мотряй, Петька. Не говори ты мне эдаких слов, выпорю. Не посмотрю на твою ученость... Думаешь все тебе возможно?..
Принес старик картину старую, мухами засиженную, в рамке золотой. Старик на ней нарисован белый с обручем желтым вокруг головы, медведя из рук кормит.
— Стекло бы к ней надо.
За ушами почесал дед.
Старуха надоумила.
— А ты ступай да из зимней рамы вынь стекло, вставим в картину.
И повесили Петьке „Саровскую пустынь“, со стариком светлоликим. А портрет ему поодаль повесить пришлось, к ногам.
2
На другой день Петька к ребятам пошел. Нашел их за селом у амбаров. Сидели они и курили. Цыгарки завертывали с лошадиную ногу из толстой бумаги. Дым колесом шел от них.
— Молокососы, — подумал Петька. — Сразу после соски за цыгарку берутся.
Ванька Цыганок, самый высокий, самый черный из ребят, как жук, — сидел в середине ребятишек оборванных и говорил:
— Мы его проучим, стерву... Мы ему зубы выбьем... Поймаем где-нибудь, так не возрадуется. Я гирю на шнурке припас для него.
Гирю фунтовую вынул из-за пазухи и ребятам показывает. Они сочувствовали ему. И сами кулаки сжимали.
— Кого вы это лупите? — спросил Петька, подходя.
— А, Петька!
— Приехал?
— Надолго? — спрашивали они его.
— На лето, ребятишки.
— Вот хорошо-то.
— А мы тут Вовку-барчука бить собираемся.
— За что?
— А он у нас удочки переломал. Мы рыбачили на Пиявишном озере, а он пришел с отцом толстопузым своим и переломал все удочки.
— А вот у Семки шапку забрал. Пущай, говорит, отец придет.
Семка сидит и позеленел весь, закашлялся, глаза, как рыба в тине, трепещутся. Дымом задохнулся он, здорово хватил, так что до пяток достало. Маленький Семка меньше всех.
— В спину ему ударь, — кричал Цыганок, сидящий за Семкой.
— Не надо, не надо.
Рукой отмахивается Семка. Глазами выпученными ворочает по сторонам.
— Испить, — просит.
— А зачем его отца требуют? — спросил Петька.
— А отец-то его — лесовщик. Лопухин ему дом свой для жилья предоставил. В усадьбе у себя поселил. Харчи ему дал и все прочее удовольствие. Лопухин-то видно нагоняя хочет дать Семкиному отцу.
— Дескать, сына в послушанье возьми.
В это время из огорода с осью мужик здоровенный вышел рыжебородый, ровно пламя изо рта выхаркивает.
— Я вам, шпане такой, ребра выломаю. Пожар сделаете. И на ребят направился.
— Мокей, Мокей, — закричали они.
— Удирай.
Бежать бросились.
— В лес айдате.
— Петька, айда с нами! Мы там белок камнями сшибать будем.
Петька остался на месте.
Мокей, мужик — подошел. Ось с плеча снял и оперся на нее.
— Ты што, Петька, аль приехал?
— Приехал.
— Что в Москве-то?.. Насчет переворота ничего не слыхать?
— Нет.
— А у нас говорят, что переворот будет. В Петроград будто Керенский приехал, — есеров собирать хочет.
Глаза его, окруженные рыжими бровями, золотились, будто мышенята из норки выглядывали.
А ты самогон не пьешь? Хорош у нас самогон...
Г. Клуцис
— Чепуха это все, вранье, — сказал Петька. Это контр-революция слухи разбрасывает.
— Не знаем уж кто, только говорят.
— Кто говорит? Не Лопухин ли помещик?
— Не-ет... Он не говорит... Он за Советскую власть.
— Как за Советскую?
— А так за Советскую... Мы все теперь за Советскую: земля у нас есть... Налогов половину отдаем.
И хитро, насмешливо так, улыбался.
— Так, говоришь, перевороту не будет?
— Нет.
— А, может, слышно где про восстание?.. Англичане, говорят, бумагу прислали строгую. Большевиков, мол, убрать требуют.
— А кукиш они не хотят?
И сделал кукиш этот из трех пальцев. Языком высунутым потрепал.
— Не знаю, — хотят они твой кукиш, али нет, — только бумагу-то прислали. Даже в газете „Коммуне“ письмо это было прописано. — Пишут, Петя, англичане, пишут,
— Ну так что... Пусть они что угодно пишут, — бумаги-то у них много... А рабочие наши бумажки-то ихние используют куда надо, особенно они после обеда годятся.
Мокей потоптался. Грачей с огорода спугнул. Бороду с изнанки, от шеи почесал.
— Пойдем, Петя, ко мне чайку попить.
— Нет. Я не хочу, только что напился. Меня бабушка гороховым киселем накормила и молоком. Сейчас еще не отдышусь.
И, растопырив губы, Петька вздохнул.
А Мокей ласково, с улыбочкой, заглядывал в глаза.
— А ты самогон не пьешь? Хороший у нас самогон, — советского производства, — прямо — спирт. Горит, как спичку подставишь. Пойдем, раздавим бутылочку, а?..
— Не пью я, — сказал Петька.
И пошел к дому.
Подозрительно показалось, — что это он так угощеньем навязывается?
— Что-нибудь нечистое тут, — смекнул Петька. Раньше нищенкой называл, а теперь — в гости зовет, Петей называет.
— Так ты заходи все-таки, — летело ему вдогонку, — посидишь у нас. У нас — пасека, мед липовый.
Голос сладкий, медовый.
Но Петька не слушал. По деревне пошел. Полянка зеленая кругом. Весна теплая. Солнышко жарит вовсю. Красное оно, вылиняло, обгорело, а шерстью новой еще не обросло. Коты на крышах, как мертвые, лежат, на воробьишек глаза щурят. А воробьишки нахохлившись прыгают на коньках, чирикают радостно, звонко.
3
К обеду Петька вернулся домой. Старик сидел на завалинке в пимах. Лапти вязал он. А кочедых его блестел серпом.
— Нагулялся, Петя?
— Нагулялся.
— А что это Мокей рыжий с тобой разговаривал?
— Не знаю, что ему надо от меня. К себе звал, самогоном угостить хотел.
— Что это он выдумал... Ты не вздумай пить, с этих лет.
— Не-ет, — замотал головой Петька. — Я и большой не стану пить.
— То-то. Отца-то твоего это самое сгубило. Хороший мужик был, здоровенный, а скрутился. Бывало, когда служил у Лопухина в кучерах, — напьется — и ну гонять на барских рысаках, в мыло их закатает. А после этого барин запрет его в холодный подвал и держит его там неделю. Чахнет мужик, похмелья просит, а ему с жару-то сунут ковшик воды студеной и ничего больше не дают. Так и вогнали мужика в чахотку — помер в кладовой той, в подвальной... Вечная ему память.
Отложил старик лапоть и перекрестился.
— Сходил бы ты, парень, на могилку-то к нему. Помолился бы.
— Нет, дед, — я не молюсь
— Пошто это ты?
— Не поможет молитва. Земля без бога сделана. И тут он начал убеждать старика, что нет бога. Рассказал ему о строении земли, о религии, как она образовалась, кто такие попы, лекторов вспоминая, который про что говорил.
А дед перебил его.
— Про попов-то ты это верно. Я и сам не хожу к ним, обман вижу в них, корыстолюбие.
— В вере-то я и сам того... Сметанку в пост люблю с крыночек иногда того... Только ты старухе не говори об этом — съест она меня. И то целую ночь ворчала на тебя, что ты налепил этого — Ленина.
— Да Ленин-то — учитель наш, вождь, — заступился Петька за Ленина.
Уши растопырил.
Объяснять стал, кто такой Ленин.
А старик перебил.
Зевнул.
— Ладно, — сказал он, вставая, — потом расскажешь... Пойдем, пообедаем. Старуха окрошку сделала... А самогон-то ты не пей, не пей, говорю.
— Не-ет.
— И на што бы ему звать тебя?.. Может, девку свою показать хочет? Невеста она у него будет скоро. Думает, — может, подрастешь ты, в женихи подоспеешь к ней, зятем будешь. Любит он ученых-то людей, — все не наш брат — мужичье.
— А чихать мне на них, — сказал Петька.
За стариком пошел.
Голубей, сидящих на воротах, пугнул.
— Кыш-ш.
Они вспорхнули и полетели по воздуху, кувыркались, ровно прокламашки, сброшенные с аэроплана.
— Во, как аэроплан, летают, — говорил Петька, любуясь голубями.
Объяснять стал, кто такой Ленин...
Г. Клуцис
4
На столе уже стояла большая деревянная чашка, окруженная ложками. И хлеб тут же целый, не резанный. Все это было покрыто пестрой скатерткой. Мухи ходили поверх скатерти и ногами потирали, словно люди, ожидающие обеда.
И Петька руками потер.
— Пообедаем.
Слюнки на губах навернулись, проголодался здорово.
Старик перекрестился на образа темные, старинные, — и за стол полез.
Старуха с печи слезла.
— Ну, садитесь, садитесь.
Петька сел не крестясь.
— Что же ты, Петя, не молишься?
— А что душой-то кривить?.. Я давно не молюсь.
— Ах, грех-то какой, грех-то, — вздыхала старуха, — ты бы хоть раз перекрестился... Хоть для виду, — срам ведь один: войдет посторонний человек — стыд нам из-за тебя. Вот, мол, до чего доучился внучек-то, басурманом сделался... Ну, перекрестись, Петенька.
— Ну, нате... Что из этого?
Перекрестился.
На стену покосился, где Ленина вчера прилепил, — не смотрит ли он со стены, как пионер — его ученик — богу молится. Нахмуренным представил Ленина... Глядь, а его на стенке нету. Только тесто присохшее на ней пупышками торчит.
— Где Ленин? — чуть не со слезами крикнул Петька.
Из-за стола вылез.
Под кроватью посмотрел, думая, — не отклеился ли портрет?
Но и там его не было,
— Куда дели?
— Я-то почем знаю, — заговорила старуха. Тут Санька комсомолец был. Книжки твои смотрел, может, он взял.
— Когда он был?
— Перед вами... Ушел недавно... Ты садись обедать-то, — после разыщешь.
— Не хочу я.
Губы сковородником сделал.
И из избы вышел.
— Постой, куда ты?
— Пообедай, — кричали, ему.
Но он только дверью хлопнул, стекла задребезжали от этого.
— Вот характерный какой, в отца.
В окошко хотели крикнуть ему, сказать, что портрет в кладовую спрятали, на место „Саровской пустыни“ положили. Высунулись из окна.
— Петя-я-я.
5
А он уже на другом конце села. В солнце купается. Всю улицу залило оно, будто весной, в разлив.
У Санькиного двора Петька окликнул девчонку.
— Мань, Санька дома?
— Дома-а, — протянула пятилетняя Манька, игравшая в куклы у ворот.
Загляделась на Петьку, на чулки его интересные, на шапочку, на платочек красный на шее. А когда Петька вошел в избу, она говорила:
— Все лавно такую куклу жделаю.
Санька комсомолец сидел над газетой „Коммуной“, издаваемой в губернии. Голова его обритая походила на желтую дыню. Сидел он, навалившись на подоконник. И тут у него на газете, как и на улице, было разлито солнце, тоненькими пленками переливалось по бумаге.
— Санька, ты у меня портрет забрал?
Обернулся Санька. Лицо радостное.
— Какой портрет?
— Какой, какой?.. На стене который висел?
— Я не брал. Его старуха спрятала. Ворчит на тебя... Ты когда приехал-то?
— Вчера.
— Эх, кабы раньше приехал! У нас собрание тут интересное было.
— Какое?
— Из-за мельницы спорили. Общество забрать хотело мельницу у Лопухина. Постановление было сделали, — все честь честью, но тут явился Мокей рыжий с ватагой кулаков — и постановление на коптилке сжег.
— Вот, — говорит, — ваше постановление. Нельзя, — говорит, — самочинную реквизацию чинить. Власть, — говорит, — сама все сделает... Скоро другая будет она.
Кулаки сжались у Саньки.
— Неужели правда, что Керенский в Ленинград уехал?
— Враки.
— Я то же думаю. Они эти слухи пускают. В волости бы известно было. Мокей эту всю канитель проводит. Он пайщиком у Лопухина. Вместе содержат мельницу.
— А ты в газету про это не писнул?
— Нет,
— Написать надо.
— Давай напишем вместе.
— Давай.
И обсуждали, как они напишут. Санька говорил, что в „Коммуну“ надо отправить письмо, а Петька настаивал отправить в Москву — в „Крестьянскую Газету“.
Спорили.
Обсуждали.
Не замечали, что делается вокруг.
А в избу нашли куры, закудахтали. Разбрелись по всей избе, по кухне. Из котлов, стоявших под лавкой, пить стали.
Пришла мать из огорода — и взбучку обоим дала.
— Что вы кур-то напустили, окаянные?
Подзатыльником угостила Саньку.
6
Ночь наступила уж. Синяя, она накрыла села шалью, на которой были цветочки желтые, похожие на курослепы. Лес на горке сгрудился, черным стал. В обнимку стояли деревья, тихие, задумчивые. Слушали, как где-то вдали волки выли. Купол на церкви отсвечивал, будто медный таз. Тихо стало на Черном Лому. Спать ложились все.
Только старик и старуха не спали, о Петьке беспокоились. Старуха на печи ворочалась, вздыхала. Богородицу и всех святых призывала, которые в памяти ее остались. А старик на двор выходил, на завалинке сидел, к шагам по улице прислушивался.
Нет Петьки.
Сказали про Петьку, что он ушел из Черного Лома.
Мужик заходил и сказал.
— Видел, говорит, вашего Петьку и Саньку комсомольца за селом. Ехал из волости и встретил их у Красного Оврага — пять верст отсюда.
— Господи, господи, — вздыхала старуха. — Какой он карахтерный. Вылитый отец. Тот, покойник, дай бог царство небесное, такой же упрямый был, — что захочет, всегда на своем настоит, — не перечь ему...
— Господи, господи...
По косточкам перебирала характер отца Петькиного. Петьку сравнивала с ним.
— Старик, где ты? — стонала она на печи. — Поди, принеси портрету, повесь ему, пусть уж висит. Знать бы, так не трогать его.
— Что ты там?
Всунул голову старик с улицы.
— Портрету-то, говорю, принеси... Из-за нее ушел он от нас.
— Где она?
— Горшок со сметаной покрыт ей.
Закряхтел старик.
В кладовую спустился по ступенькам, по кривым.
По кринкам шарить стал.
Разлил что-то.
Выругался.
И перекрестился.
— Прости меня грешного.
В избу вошел.
— Старуха, зажги-ка лучину.
— Зачем?
— Не вижу я ничего... Чем приклеить-то?
— Муки из сельницы возьми да поплюй на нее.
Проделал все это старик.
Лучину в щель воткнул над кроватью Петькиной. Приклеил портрет и подумал, глядя на человека, стоящего на портрете во весь рост, с глазами прищуренными:
— И что он так парню спонадобился?.. И в самом деле видно, большой человек этот?.. По его пути, видно, пошел Петька.
— Старик! — опять окликнула старуха.
— Что?
— В Каргашах, наверно, он, у тетки. Запряг бы ты лошадь да съездил за ним. Привез бы сюда... Экий капризный мальчишка. И обедать не стал давеча после обиды... А тетке шепни на ухо, чтоб в следующий раз не принимала его. А то срам какой, будто прокормить не можем его.
Разыскал старик портянки, обулся и пошел запрягать Пегашку.
7
А ребята отправили письмо, зашли к тетке. Чайку там попили, отдохнули. Когда вышли, — на дворе ночь была. Заря, похожая на кровь, стекала на землю.
За село вышли.
А за ним — дорога в Черный Лом. Пустынная дорога через пашни. Ни деревца, ни крестика нет по ней до самого Красного Оврага, а там — кусты, сучья, кусты, овины.
— Все-таки отправил, — говорил Санька. — Из наших мужиков никто нас почти не видал... Заказное, не утеряется... Результату будем ждать.
— Недельки через две пропечатают... Может, комиссия приедет расследовать.
— А ты молчи... Никому не заикайся, что мы написали, а то плохо будет. Со свету сживет Мокей. Сила у него — все богатеи заодно с ним.
— Я буду, как дерево, нем, — сказал Петька.
И вдруг оба вздрогнули.
Г. Клуцис
— И я тоже, — добавил Санька.
Шли.
Разговаривали.
Подходя к оврагу, замолчали. Жуткое было это место. Раньше разбойники водились тут. Грабили, убивали. Как вспомнил про это Петька, даже на спине холодно стало. Ровно кто руку холодную под рубаху засунул.
— Санька, ты не боишься?
— Чего?
— Разбойников хотя бы?
— Нет. Какие тут разбойники? С самой войны их нету.
— А сам дрожит, — подумал про него Петька.
Согнулся весь, точно дерево сухое, которое на пашне стоит на самом бугре. И ночью его видно, так как заря красная на небе еще с вечера осталась.
И вдруг оба вздрогнули. Что-то серое, большое на дороге закопошилось. В глазах зарябило.
— Волк.
За руки схватились.
А волк сел на дорогу и сидит. Глазами зелеными глядит на ребят. Как пень сидит, не пошевелится. Присмотрелись ребята, а дальше еще и еще волки — которые сидят, а которые перебегают. Глаза у них зеленые — будто травы в кустах колышутся. Застыли на месте ребята. В землю вязнуть начали. А земля под ногами сыпучая, ровно песок, который водой вымывает из-под ступней.
— Санька, а! — прошептал Петька. — У тебя спички есть?
— Есть, — боясь нарушить тишину, сказал Санька.
— Давай зажжем огонь. Боятся они огня.
— Зажигай, — уже смелее выговорил Санька.
Спички сунул Петьке.
Петька чиркнул одну. Огонек затрепыхался у него в руках, точно воробушек пойманный. А Санька достал из кармана газету, только что полученную на почте. Развернул ее и подсунул под спичку. Она вспыхнула, осветила дорогу — и упала на землю, будто лебедь с подшибленным крылом. Волки шарахнулись в сторону. Ворчали, как собаки, убегавшие с костью.
— Соломы, соломы давай! — кричал Петька.
— Соломы, сучьев, — повторял Санька.
А оба с места не двинулись. От огня отбежать боялись. Кругом еще темней стало, страшнее. Небо позеленело, будто луг в сумерки. А звезды на нем стали красными, как земляника.
Газета догорала.
— Солома вон, — крикнул Санька.
— Где?
— Да вот.
И верно, рядом стоял стог соломы. Золотился от огня.
— Бежим!
— Бежим!
Бросились к соломе.
Схватили по охапке — и обратно.
От газеты остались одни искры. Ребята бросили на них солому и, ползая на коленях, стали раздувать огонь. Пламя появилось, метнулось кверху, к звездам, — будто жеребенок рыжий лягнулся, — и осветило пашни и ребят, с большими испуганными глазами.
8
Подъезжая к Красному Оврагу, старик заметил это пламя.
Большое, оно взметнулось стогом, куполом церковным отсвечивало. Лошадь фыркнула, захрапела. Бросилась в сторону. А мимо телеги стаей, собачьей свадьбой, пробежали волки.
— Ну, гады, — прохрипел старик.
Лошадь стегнул.
Запрыгала телега, закричала.
Через овраг, как по воздуху, перелетела. На костер мчалась.
— Собачьи дети, — закричал старик, увидев ребят у костра. — Грому на вас нету; молния не стрельнет вам в уши.
Лошадь осадил. Чуть не в огонь ткнулась она мордой.
С опущенными головами стояли ребята, не говорили ничего. И лица и руки были у них медные. А голые коленки Петьки были замазаны грязью.
— Вот вы где, пропадущие? А дома мучайся из-за вас, не спи. Нечего сказать, подросли детки.
— А что мучиться из-за нас, — сказал Санька, — мы сами на ногах.
— На ногах, на ногах... А что у родителей не болит сердце? Мать-то вон твоя два раза забегала к нам, с ног сбилась, тебя искамши. — Присел на корточки к огню и закурил. Брови седые подпалил прикуривая.
Огнем позолотило их.
— Куда это вы ушли-то?.. Пропадали где?
Захитрили ребята:
— К тетке я ходил, — говорит Петька, — навестить ее надо было.
— А я в комитет РЕКАСЕМА, — деловито добавил Санька, — дела туда были.
Газету хотел показать старику:
— Вот, мол, видишь?..
Но газету сожгли. По пустому карману только потрепал.
— Вот они где дела-то партейные!
— Сказали бы, что надо по делам... Лошадь бы можно запрячь было, — обиженно говорил старик, — а то все у вас втихомолку делается.
— Мы и пешком хорошо сходили, — сказал Санька.
— Для мускулов развитие, — пояснил Петька.
— Ладно, ладно, развивальщики, — поедемте.
Плюнул на папироску — и в огонь бросил.
Лошадь повернул.
Поехали.
Волков уже не боялись.
Рядышком сидели.
Молчали.
На горку выехали. Огонек в школе двухэтажной, деревянной — мелькнул.
Подумал Петька:
— К учительнице бы надо зайти, к Анне Семеновне. Она хлопотала, чтобы в Москву меня отправили. Поговорить бы с ней насчет пионеров. Может, школу дала бы для клуба да для собраний.
Саньку под бок ткнул.
— Санька!
— Чего? — сквозь сон отозвался тот.
— Пионеров бы нам организовать?
— Не выйдет! Ничего не будет. Пробовано было.
— Почему не выйдет?
— А так, не привычны ребята к этому, — смеются только.
— Надо так сделать, чтобы не смеялись, серьезно поставить дело.
— Ставь, если сумеешь. Я не берусь, — пробовал уж, собрал было их, сказал им:
— Пионеров, мол, давайте сделаем. А они разбежались все — и неделю пионером дразнили меня.
— А что ты им говорил?
— Все говорил.
В село заехали. В темноте разглядели человека, идущего по порядку.
Он шел по направлению к помещиковой усадьбе, к саду. Санька шепнул Петьке.
— Петь, это Мокей, кажись, идет?
— Он, кажись.
— Мокей, куда это ты ночным бытом идешь? — окрикнул мужика старик.
Тот ничего не ответил и скрылся за углом.
— Мокей это, — сказал Петька. — Не иначе задумал что-нибудь. К Лопухину, наверно, пошел. Пойдем, Санька, последим за ним.
— Куда ты? Кнутом вот я тебя, — погрозил старик. — Не сидится дома-то. Везде свой нос совать начинаешь. Обожди, проучат тебя. Саньку сманиваешь? — на него и так грозятся. Еще за передел ему попадет. Тот же Мокей поучит его. Удружил он ему, — самый лучший кусок земли, что за Пиявиным озером, отобрал. Он вам, стервецам...
Петька не слушал больше. Выпрыгнул из телеги и побежал за угол, где скрылся человек.
Задержать его хотел Санька, но поздно было. Во тьме, как в мешке, скрылся Петька.
9
А человек шел к помещикову саду. Белые колонны дома, как покойники, стояли за деревьями. Звезды над ним, ровно свечки, горели. Человек подошел к калитке сада и позвонил в колокольчик из-под дуги. Вышел кто-то. Пропустил его. На собак прикрикнул, которые сердито урчали на чужого человека.
Петька постоял, зашел с другого боку и перелез в сад через колючую проволоку. Жутко сначала было в чужом саду. Казалось, что за каждым деревом стоит кто-нибудь — или собака, или человек. Каждое дерево шелестом своим пугало.
Петька набрался духу и смело прошел к дому-особняку. Свет из одного большого окна выливался на деревья. Под свет под этот было попал Петька и испугался себя.
— Увидят, поймают...
Назад отбросило в темноту.
К окну пробовал пройти, — ничего не видно, окна высоко, — лестницу надо.
— С дерева надо, — подумал.
И залез на тополь толстый, который перед окном стоял.
Залез.
Глянул.
И ахнул.
— Буржуйское собрание, — вырвалось у него. — Вот они где!.. — В большой белой комнате, вокруг долгого стола сидели люди. Петька узнал их. Сам Лопухин сидел с краю у стола. Лысина его, похожая на голое колено, блестела от лампы „молнии“, раскачивающейся под потолком. Его жирная рука, как поросенок, лежала на столе и шевелила отяжелевшими пальцами. Рядом с ним сидел Мокей, мужик с бородой, рассыпанной по столу. Он говорил что-то, а остальные слушали его и головами одобрительно кивали. Батюшка, сидевший под портретом усатого генерала, крест серебряный мусолил. А лесник стоял за его спиной и на ухо шептал что-то.
— Вот буржуи проклятые, — ругался Петька, сидя верхом на суку. Не иначе, контр-революционное собрание. Бомбу бы им туда подсунуть, под стол бы тихонечко пустить ее, будто котенка.
Буржуйское собрание, — вырвалось у него.
В. Кулагина
Голову вытянул. Вперед по суку подался, чтобы лучше разглядеть всех. Забыл даже, что на суку сидит, что в саду чужом. Ухватился за сухой сучок. Треснул он. Чуть не свалился. Собак встревожил, дремавших у крыльца. Завыли они. Окружили дерево с хриплым лаем. Испугался Петька, — выше забрался, к дереву прилип.
Лопухин на балкон вышел. Окрикнул собак. Примолкли они, но не ушли от дерева, вокруг его на хвосты сели. Посмотрел Лопухин кругом. Прислушался и ушел успокоенный, думая, видно, что на белку собаки лаяли.
До самого утра сидел Петька на дереве, до солнца, будто грач. Видел, как расходилось буржуйское собрание. Думал:
— Может, собаки уйдут от дерева провожать гостей.
Но не ушли они, разлеглись под деревом.
Пустая была комната. Окурки валялись в ней. Стулья разбежались по комнате. Глядя на это, от скуки задремал Петька. А утром, когда пригрело солнце, — он заснул. Мускуленки его распустились, и он упал, будто грач пришибленный.
Собаки сначала испугались, поджали хвосты и с визгом убежали, а потом бросились на Петьку, здоровые, лохматые, с глазами поросшими мохом. Искусали его, штаны и рубаху распластали, из ноги кусок мяса выкусили.
— Ой, — орал Петька, — ой!
Помещица на шум вышла, собак отогнала. А за ней сын долговязый вышел, в парусиновом костюме.
— Вова, — сказала она ему, — поди-ка принеси ваты да тряпку чистую.
Перевязку сделали Петьке, боль уняли, На крыльцо между белых колонн усадили.
Лопухин сам вышел в пиджаке блестящем.
Как ты попал сюда?.. А? Кто тебя просил?.. Видел?
— Что?
— Что ночью было?.. На дереве сидел?.. Смотри, если слово одно выронишь об этом, так плохо тебе будет!.. Иван Игнатьич! — крикнул он лесовщику, проходившему по двору, — проводи-ка его за ворота.
Взял Петьку под руку лесовщик и повел. У ворот пинка дал, не то в шутку, не то всерьез.
10
Рану Петькину лечила бабушка, припарки делала. Листы сиреневые привязывала, помогают они, гной вытягивают. Ворчала, что непослушный такой, что нос тычет куда не надо, что к помещику гостем непрошенным залез. Ворчала и ворчала.
— Уймись ты, не вздорь с ними, — говорила она, прикладывая листья.
— Беду наделаешь... Нельзя с ними не ладить. Придерется к чему-нибудь Лопухин, зло подложит.
— Ну уж... придерется! — задорно возражал Петька. — Я его выкурю отсюда. Не по праву он тут живет. Поместье-то его отбору принадлежит, выселяют помещиков из гнезд ихних.
— Чтой-то ты какой задорный, Петя! Откуда набрался храбрости такой? Смотри, ужо он тебе!..
Зло его брало на собак лопухинских, злющих. Не первого искусали его. Сколько ребят жаловалось на них. Мимо сада дорога к речке. Пойдут ребята купаться или лошадей поить, а собаки нет-нет да и искусают кого-нибудь. Со скорой помощью всегда выходит помещица толстая, — перевязки всем делает... А собак не привязывают.
— Надо их уничтожить, — думал Петька.
Несколько дней ковылял он с палкой. На завалинке подолгу сидел и все думал, и думал, как собак изничтожить. Прислушивался, как они лают в саду, как хрипят на прохожих.
— Ужо я вам, ужо, — грозился Петька.
Потом взял у старухи ступу, набрал стекляшек, натолк их и в хлеб закатал — шарики сделал из хлеба.
— Вот вам, жрите.
И в сад бросил, около того места, где ребята купаться ходят. Недельки через две, проходя мимо этого места, — дух противный унюхал, дохлятиной пахло, особенно по ветерку.
Пригляделся.
Две собаки на канаве валялись, с шерстью облезлой, а третья в воде лежала, раскисшая; черви на ней белые копошились, будто лягушки икрой обметали.
Нос заткнул Петька, проходя мимо них.
— Вот вам, гады!..
И сплюнул.
— Хозяину бы вашему так издохнуть!
11
Троице нога Петькина выздоровела.
В лес, мимо кузницы, пошел, в рощу березовую. Ребята уже там были. На пригорке сидели, на припеке. Солнце выходило из-за холмов. Цыганок кричал:
— Слушайте, ребята, солнце поет!
Смотрели на него ребята, — и верно, всем казалось, что солнце поет. (Поверье такое было, будто солнце в Троицу поет). Жаворонки в воздухе плавают. Желтый воздух, как мед.
Петька подошел к ним.
— Что вы тут?
— Солнце поет, солнце!
— Слушай!
Прислушался Петька. Не поет солнце, не слышно. А солнце будто икона, — риза золотая у него, лик радужный, святительский.
— Пустяки, ребята. Так это всем кажется. Предрассудки все.
— А ты слушай.
Палец кверху поднял Цыганок.
Еще прислушался Петька — и вскрикнул:
— Ай!
— Что, слышишь?
— Слышу!
И, действительно, солнце пело — звенело за холмами, Интернационал пело!
Удивился Петька.
— Как это может быть?.. Может, в ушах звенит? Может, колокола разливаются по лугам?
— Ой-ей-ей, поет, ребятушки!
Глаза прищурил, на солнце глядя из-под руки.
Увидел.
Точно валы скошенного сена зашевелились за бугром и за Красной Горой.
— Ребята! это не солнце поет, это красная армия идет, песни революционные распевает.
— И верно.
— Так и есть.
— А мы думали — солнце поет!
— Навстречу побежим!
Ждали на Красной Горке.
— Зачем они идут? — думал Петька. — Уж не заметку ли нашу узнали. Может, обследовать село идут?..
Обрадовался.
Глянул на усадьбу Лопухинскую. Белая она. Блестит в саду распустившаяся, ровно снег в овраге под солнцем весенним. Погрозился:
— Ужо вам.
Кулаком тыкал в ту сторону, где усадьба.
— Красная армия всех сильней!
Встречать побежал армию красную.
Усталая она шла, а пела. Командир впереди всех. Твердо шагает. Знамя над головами — будто мак на огороде — распускается.
— Вы к нам, товарищи?
Выступил, за галстук пионерский держась.
Командир спросил:
— Зачем к вам?
— Не по заметке вы?
— Нет. Мы походом идем. В город другой.
— А... А я думал...
Рот разинул.
— Не к нам, значит.
Сожалел, что не в Черный Лом шли войска.
Проводили ребята отряд за горы, полюбовались мерным шагом, твердокаменным, — и разбежались по лесу, по березняку.
На деревья лезли.
Кукушками кричали, по-звериному, разному.
— Ку-ку.
— Мя-у-у.
Бродил по траве Петька.
Фиалки собирал. Нюхал их. Целый букет набрал фиалок. Синие они — как дым из трубы заводской. Про завод вспомнил, про Москву. Пыль теперь в Москве, жарко. Не гудят ребята за станками и в классах, будто в ульях. Не путаются ноги в стружках. А пионеры в лагерях теперь, сборы у них, работа, — много работы.
Задумался. А что он, Петька, сделал? Как выполняет заветы Ленина?..
— Значками да платочками привлечь бы ребят. Нет значков, нет платочков, — ничем не поможешь...
Так думал и так думал, — никак не выходит. Нечем заинтересовать ребят, нечем привлечь. Книжки они не читали. Сам хотел читать им — слушать не хотят.
Шапочку черную с головы снимал. Ладошкой по затылку тер.
— Ничего не придумаешь.
12
Пока Петька ходил, думал, — Ванька Цыганок, на березе сидя, заметил в лесу штанины белые. Сердце запрыгало в нем. Чуть с березы не свалился. Прижался к сучку, притаился, будто рысь на дереве, которая добычу поджидает. Дух замер в груди.
Но ребята раньше заметили Вовку — барчонка, сына помещикова.
— Держи-и его, — кричали они.
Со всех ног, со всех сторон сбегались к барчуку, ровно жеребята к стаду.
— Держи-и.
С березы спрыгнул Цыганок. Свалился на траву. Хромая, побежал к ребятам.
А барчонок стоял, согнувшись. Голову руками закрывал, словно от камней, которых у ребят не было. Ноги дрожали у него будто кисельные. Сапоги на ногах с коротенькими голенищами, как есть два колокола, воткнутых в землю, с языками, торчащими кверху.
— А, чует собака, чье мясо съела, — кричал Цыганок, глядя на дрожащего барчука.
— Попался!
— Вон у него чуть сопля наружу не полезла.
— Бить его?
— В затылок натыкать ему!
— За что, ребята? — плаксивым голосом говорил барчонок. — Я ведь ничего не сделал вам. Я ведь...
— Нюни распустил, хандришь.
— Вот мы тебе покажем.
— Пошто удочки наши сломал, в те поры, когда мы в Пиявишном рыбачили.
— Озеро себе захватили, глаза ваши завидущие. Рыбку там удите, а нам на пирог нельзя достать. У общества перебили озеро-то. Будто для вас рыба-то выросла.
— Вот тебе.
Ванька подошел и затрещину дал барчонку. Гирей хотел, которую показывал у амбара, да пожалел — убить можно. Свихнулся барчонок, закачался, будто дерево подрубленное.
— Бей!
— Бей!
— За что?
Еле успел выговорить.
Смяли его.
Тузили.
Коленками пожимали.
Волосы выдергивали.
Хватил он зубами Цыганка. Руку отдернул тот. Кровь на ней росой из яминок выступила.
— Кусаться, кислятина, вздумал!
И ногой в рыло.
Потом закричал.
— Ребята! давайте свяжем его, — к дереву прикрутим. Может, волки съедят его, — греха на душе меньше будет.
Нечем связывать.
— Как нечем?
— Так, нечем — веревок нету.
— А лыком?
Ножи достали, — кто из штанов, кто из-за пазухи. Пока один лыко драл, другие на Вовке сидели верхом.
— Тише, не брыкайся, — тебе хуже.
Лицом в траву тыкали, в зеленую, в пахучую.
На шею плевали.
— Вот тебе... говорят, не брыкайся.
Лыко надрали.
Скрутили и руки отдельно и ноги отдельно.
К березе тоненькой привязали.
Желтый курослеп под ногами.
И желтым лыком липким прикрепили со всех сторон.
Убежали.
13
Переполох в усадьбе Лопухина. Каждый листик на дереве шепчется о том, что пропал Вовка. Весь двор на ноги подняли — и нянька, кривая, старая, и конюх аршинный, бородатый. Конюх всех лошадей перемучил, по окрестностям ездивши, — еле на ногах стоит.
Нет Вовки — пропал.
На третий день полесовщик отыскал его. Еле живой был Вовка. Комарами искусан весь, места живого на теле нету. Глаза загноились, блуждают, будто луна в облаках.
— Мать честная, — подъезжая к березе, выговорил лесник. Он ведь это, он, Вовка.
Страшный, неузнаваемый человек к березе привязан.
Даже усомнился.
— Он ли это?
Он.
Штаны белые ветерок раздувает, и сапоги его.
— Кто это тебя?
Молчит, не понимает. Глаза будто луна в облаках.
Живо отвязал Вовку, перерезав ножом высохшее лыко.
А протокол-то составлю...
В. Кулагина
Верхом на коня посадил впереди себя — и повез в усадьбу, словно кринку молока, полную до краев.
В кудрявой роще стук топоров слышался.
Мимо проезжал лесник.
Наклонившись над срубленной березой, старик, Петькин дед, топором блестящим взмахивал, сучья отрубал. Заслышав топот глухой лошадиный — оглянулся.
— Господи.
Веревку схватил и побежал, подпрыгивая точно заяц, куда старость делась. Жизнь перед опасностью закипела в нем.
— Стой-ой! — закричал лесник.
Но он бежал.
— Стой, стрелять буду!
Ружье снял.
Увидел старик, остановился. Бороду распустил навстречу леснику.
— За что стрелять-то, Иван Игнатьевич? За дерево?! Оно ведь сухое... на дровишки я его.
— Знаем... на дровишки... Протокол надо составить.
— Помилуй, Иван Игнатьевич... Чем я уплачу штраф-то, ежели присудят? Коровешку опишут, лошаденку!
— А мне-то какое дело!.. Прощал я тебе, будет!.. Помнишь, — зимой в роще с возом поймал, — простил... и теперь простил было, но... Петеньку тебе твоего придержать надо... Пусть не сует нос-то в чужие дела.
— При чем тут Петенька?.. Он сам по себе... отреклись мы от него. Вразумляем со старухой, а он одно — декретами своими хвастается... Ты уж, Иван Игнатьевич, помилуй. Прости на старости лет. У всех у нас грешок-то этот водится. Все без дровишек не живем... А вон Мокей рыжий, так сруб себе поставил, на дом пятистенный. Есть у него дом, а еще ставить хочет.
— Для продажи, говорит.
Взбесился тут полесовщик. Глаза запрыгали, ощупывая старика.
— Ты мне, старый хрыч, не указывай! Знаю, что делаю. У Мокея разрешенье было из лесничества.
— Значит, лесничество не право... Непорядок там.
А про то не тебе рассуждать, — ступай. А протокол-то составлю. И уехал.
14
Домой старик пришел не в духе. Кошку пнул, попавшуюся под ноги. Молчал, когда за обед садился. На Петьку не поглядел.
— Чтой-то ты, старик, не весел... Принес дрова-то?
— Принес... Протокол лесник составил.
— Ай, батюшки... беда-то какая!
Головой закачала старуха
— Петька, — позвал старик, — подь-ко сюда!
— Что, дедо, — отозвался Петька, из-за книги. — Сейчас я... статью дочитаю.
Подошел, за стол сел, не крестясь. Старуха сердито посмотрела на него, хотела сказать обычное:
— Лоб-то перекрести хоть.
Но не сказала в этот раз.
А старик допрашивал:
— Что ты с лесником-то повздорил? Что у тебя с ним вышло?
— У меня? — Ничего.
— Как ничего? Что он тебя поминал, когда протокол писал? Тут Петька сообразил, в чем дело. Понял, за что злится лесник.
За то, что в сад ночью к помещику забрался, собранье буржуйское выглядел, — был и лесник там.
— Мстит это он, дед, за то, что я компанию ихнюю буржуйскую открыть хочу. Заодно он с помещиком, в одну дудочку играет с ним.
— Играет... а тебе какое дело? Не серди ты их, не трогай! Не кусаются они, пока их не трогаешь... А теперь вот разделывайся с ними, отдувайся. Лошаденку теперича, пожалуй, за штраф заберут — в нужду загонят.
— Нет, — улыбнулся Петька самодовольно. — Ты не бойся, дед. Ничего не будет... Я декрет знаю. Обожди, скоро к чорту на рога полетят — и лесовщик и помещик. Не бойся их. Мы их на чистую воду выведем.
Глядела старуха на Петьку, головой качала. Губы поджала. Дивилась на Петьку — откуда он таким смелым стал; откуда набрался всего этого?
— В отца пошел, — заключила она, — в отца, не иначе. Отец-то такой же буйный был. Всегда, выпивши, с барином на ножах был. Недаром и сгнил в подвале.
Головой качала.
— Ты, Петька, того, не ерунди. Отец-то твой из-за бую погиб, оттого, что с барином не в ладах был. И твоя туда же дорога.
— Брось, бабка, это — не старое время. Нечего нам бояться, — наша власть теперь.
— А этот, лесовщик-то, не власть?
— Власть.
— Вот она и жисть.
— Не власть тут виновата, а лесовщик. На дело его поставили, интересы блюсти народные, а он с помещиком снюхался, в лапы ему попал, живет у него, кормится. Пользует его Лопухин. Садом теперь владеет, как раньше, на дрова его рубит.
— А мы и хворостину не сруби, — штраф плати.
— Обожди, дед! Доберутся до него. Выкурят из имения. Дом обществу отдадут. Декреты я знаю. Не по праву он тут живет... А о штрафе ты не беспокойся. Тут вон в газете статейка — вопрос поставлен о лесах местного значения, о том, чтобы крестьянам их передать.
И обедать стал. Ложкой деревянной, окрашенной, в чашку заехал. Яйца из окрошки выуживать стал да лук зеленый, трубчатый.
15
После обеда к учительнице, к Анне Семеновне, пошел.
Пусто в школе. Шуму нет ребячьего, звонкого. Парты пустые стоят. Солнечные зайчики по стенам бегают. На запыленных стеклах мухи вензеля выписывают, стукаются, будто кто песок кидает в окна. А по стенам карты географические висят; метрическая система; на одной картине индейцы у шалаша какое-то животное режут, а какое — Петька забыл уже. Два года не был в школе в этой. Вот тут, за этим столом Анна Семеновна сидела и учила. Много нового, неведомого рассказывала она. Слушал ее Петька, сердце щемило от рассказов. Самому хотелось повидать все, разведать... А теперь подумал Петька, что он больше учительницы знает. Газеты каждый день читает, журналы. А лекций, лекций сколько прослушал!
Постучал в дверь.
— Войдите!
Голос мягкий, бархатный услышал.
Сама Анна Семеновна подошла, открыла.
Как фиалки глаза у ней,
— А, Петя!.. заходи, заходи. Как живешь-то?
— Хорошо, Анна Семеновна!
— Рада за тебя... Учишься?
— Учусь.
— В отпуск приехал.
Усадила Петьку на стул венский. Чаем хотела угостить, но Петька отказался.
— Я, Анна Семеновна, за советом к вам.
— За каким, Петя?
— Пионеров мне надо организовать, отряд сформировать тут.
— Что ж, дело хорошее... Только ничего не выйдет из этого. Пробовали... Я сама помогала Саньке комсомольцу, — да ничего не выходит. Ничем не приманишь ребят, драться они предпочитают да бегать.
— Заинтересовать их надо.
— Чем их заинтересуешь?
— А я уж придумал.
— Что ты придумал?
— Хочу спектакль устроить. Втянуть ребят в работу, в участие. Не оторвать их потом.
— Это верно, — сказала учительница, — да только где ты собирать их будешь? Места такого подходящего нет. Нардома нет, даже сходки собираются в амбаре маленьком.
— А я хотел попросить вас, Анна Семеновна, чтобы вы в школу пустили нас. Мы бы клуб тут устроили; плакаты бы развесили, ветками разукрасили бы все стены, — все честь-честью бы сделали. Ребят бы отсюда не выгнали.
Анна Семеновна засмеялась, — на стенку стула отвалилась, будто глотать что-то стала. Сочувственно поглядела на Петьку.
— Хорошее дело... с удовольствием бы, но не могу вас в школу пустить, никак не могу.
Петька глаза даже выпучил. Ушами захлопал. И почувствовал, будто стул под ним проваливается: вот-вот развалится он, и Петька растянется на полу.
А учительница Анна Семеновна продолжала:
— Не могу, Петя. Не приказано в школу народ пускать, и то вот, ты посмотри, какие стены стали, какой пол. Я было разрешила, в щели окурков натыкали, потолок закурили, как в бане стал он; на аршин грязи после них. Сторожиха ругается.
— Грязи, — говорит, — не проворотишь после них.
— Не могу, Петя, пустить, не могу. Инспекция тут из УОНО приезжала, нос мне натянула — и приказала: не разрешать никаких собраний.
— Анна Семеновна... как-нибудь... может разрешите, — протянул Петька. Мы бы сами после себя убирать стали.
— Я бы и сама подмела после вас, но нельзя, не разрешено.
Так и кончили разговор, не договорились. Одел Петька шапочку свою черную на лоб — и пошел. Палец в нос засунул. Ворочать им в носу стал.
— Не повезло, не выгорело, — думал он.
Новые способы придумывать стал, — как ребят в пионеры втянуть.
И вдруг вспомнил, что у помещика дом большой — залы в нем и прочие комнаты.
— Для кружков для разных подойдут они, — заключил он.
Особенно в голове засела та, большая комната, в которой буржуйский совет был.
— Вот бы помещика выкурить... Вот бы где клуб-то был!
А декреты он знал, что помещики подлежат выселению из гнезд своих насиженных.
И в „Известиях“ и в „Правде“ про это пишут.
— Вот бы...
Сердечко запрыгало, будто воробышек, схваченный в руки. На улицу вышел.
На лавочку, под кустиком сирени.
Обдумывать стал, что предпринять ему.
Как помещика выкурить.
— Опять, видно, в редакцию написать надо, — подумал он.
16
Вечером, когда Петька за чаем сидел, за самоваром медным, толстопузым, — в окно всунулась рыжая рожа Мокея.
— Дома что ли? — проревел он, как бык.
Увидел Петька.
В избу вбежал, проскрипев половицами в сенях. Через порог перешагнул — и прямо к столу. Не перекрестился даже в этот раз. Всегда богу молится, как входит в чужую избу. А в этот раз не перекрестился. Бабушка даже вздрогнула, чуть блюдце из рук не выронила. А он — хлоп газету на стол — и пальцем, ровно палкой суковатой, — тычет в то место, которое ногтем обведено.
— Ты писал?
И глазами круглыми, красными, как у волка, на Петьку зарит.
— Нет, — говорит Петька.
А сам чашку в сторону, отставил и к стене откинулся, будто почуял, что Мокей ударом замахнется на него.
— Ка-ак даст, так в стенку вдавит, — мелькнуло у него.
Побелел немножко.
Губы будто кто мелом вымазал.
А Мокей видно все понял. Голова лохматая над столом трясется. Зубы широкие, как доски в заборе, ляскают.
— Сукин ты сын, — прошипел он. — Мал еще в общественные дела соваться... Кто тебя щенка просил, а? Говори!
Хотел Петька выпалить:
— Да, я написал... Я не боюсь вас. Я вас декретом зашибу.
Но смолчал.
Зубы стиснул.
Вспомнил про селькоров убитых, про которых в каждой газете пишут.
Смолчал.
Жизни своей жалко стало, — что ее зря-то губить, рисковать ею. Понадобится еще... заветы ленинские еще не выполнены.
— Не я это писал, — вдруг твердо сказал он.
Стакан в руки взял.
Чай хотел спокойно пить, но не удалось ему это.
Плещется чай в стакане.
Из стакана выплескивается.
К губам стакан поднес, а он по зубам бьет.
Старик заступился тут.
— Да что ты, Мокей, пристал. Может, и не он писал-то, а ты с поклепом на него лезешь. Какое ему дело до вас, до делов ваших? Живет он тут в гостях... Ну, какое ему дело?.. Знать он ничего не знает.
— И впрямь, — заговорила старуха, ободренная стариком, — что ты, Мокей, пристал к нему, что ты, бог с тобой, богородица, младенец еще он.
— Младенец!.. Я ему покажу, — заревел Мокей, как бык на бойне.
Кулаком застучал.
Чашки запрыгали по столу. В разлитой воде зашлепали.
— Я вас проучу... Я вас заставлю в ногах у меня ползать... Я вас!.. Все вы заодно... Видел я вас в ту ночь, когда вы в Каргаши ездили, на почту. Нарошно туда письмо отвозили, чтобы не узнали тут, куда вы посылаете, — контроля здешнего избежали.
Как клюква, глаза покраснели.
— Я вам...
И руками замахал и ногами затопал.
— Уйди, Мокей, — взмолилась старуха, — уйди! Караул закричу. В окошко было высунулась, чтобы закричать на всю улицу, чтобы соседей созвать.
— Хоть при народе убитыми быть, — думалось ей.
Но Мокей не дождался этого.
Схватил газету и убежал.
Убежал через огороды — прямо к Лопухину, к помещику.
— Петька, погубитель ты наш, — взмолилась старуха, когда Мокей убежал, когда дверями хлопнул так, что часы остановились и тараканы из бревен посыпались, — до чего ты доведешь нас? Горе ты нам, наказание! Лучше бы ты не приезжал. Пусть бы болело сердце о тебе, но не мучились бы мы так! Не торчали бы люди с кулаками перед нами, перед старыми, Петька-а-а-а!..
А Петька после ухода Мокея облегченье почувствовал, будто камень здоровенный отвалили от него.
Заговорил:
— Не бойтесь... Чего бояться... Эка невидаль, — он грозит... Да ясно,— самого в „Уголчеку“ записали. Вот посмотрите.
— Ты писал...
В. Кулагина
17
Еще большее горе постигло стариков после суда, который штраф присудил в сорок рублей.
На печке старик лежал, вздыхал.
А баба в огород ушла, копошилась там.
В это время милиционер пришел, при оружии. И в шапке красной (хотя и лето давно наступило, но не снимал он этой шапки красной, казенной, полученной из уезда). Побаивались мужики ее. Вырастет она во дворе, как гриб какой красноголовый, и екнет сердце у мужика, — известно:
— Неладное что-нибудь.
Так и у старика екнуло сердце.
Шапку увидел эту.
В дверях стоял милиционер.
— Здравствуй, старик.
Ласково старается сказать, а все выходит как-то не по ласковому, или шапка эта тон такой голосу придает.
— Здравствуй, сынок, — взволнованным голосом заговорил дед. Ногу на приступ спустил.
— Зачем, родимый, пожаловал-то?
— Бумага из волости... Штраф с тебя полагается.
— Какой, за што?
А почуял, что за дрова штраф, за дерево, которое срубил.
— Кабы знать было, что такое дело, — пропади бы оно пропадом. Книжечку маленькую с купончиками достал милиционер.
— Есть деньги-то, што ль?
— Какие там деньги! — отмахнулся старик.
— Тогда опись придется сделать — амбарчик твой записать.
— Пишите, бог с вами... за чурку — амбаром расплачиваться. Головой покачал.
Не стал перечить.
— У всех что ли описывают, кто пойман?
— Нет... у тебя только.
— Почему же у меня... а у других?
— Так приказали мне... Я, ведь, исполняю, что велят... К кому пошлют — к тому иду.
— Это я понимаю, — согласился старик. — Только вот почему у одного у меня описывают?
— Ладно, пойдем, дед, покажешь амбарчик-то!
На двор вышли, к амбарчику маленькому, сделанному из тонких березовых бревен, пазы которого глиной замазаны. Пока мерили его на глаз, Петька прибежал.
— Что это, дед?
— Описываю вот, за порубку.
— Товарищ милиционер, обожди, не торопись писать. Надо тут разобраться, — заговорил Петька, — это по доносу сделано. Лесовщик в волости гонял с ябедой. Лопухин его науськал. Мстят они за заметку в газету, я написал про них, вот они и злятся... Не пиши, товарищ, обожди. Снова я напишу об этом. Все ихнее гнездо открывать буду.
Глаза загорелись у Петьки, будто потухшие угольки.
...Маленький стоял он перед милиционером — и объяснял ему создавшееся положение. За пуговку медную хватал его.
Милиционер смотрел на него, слушал, улыбался. Головой качал в знак одобрения. А потом сказал:
— Оно, пожалуй, ничего не получится. Лопухин тут силу имеет, вес. Он и в уезде, и везде знакомых имеет, с ответственными работниками на „ты“ обращается... Ничего, пожалуй, не выйдет.
А амбарчик все-таки описали.
Ничего не сказал старик.
На печку залез, на портянки, подогретые кирпичиками. Кряхтел. В потолок уставился. Немигающими глазами на тараканов смотрел, которые ползали над ним.
18
Не медлить, не медлить... Писать скорее надо, — говорил Петька после того, как опись сделали.
За целый день ни слова не сказали ему — ни старик, ни старуха. Оба лежали на печи, вздыхали.
Чувствовал Петька, что помехой для них стал, что зло им большое сделал, жизнь их нарушил тихую.
— Ругали бы лучше, — думал он, — мне бы легче было. Себя бы облегчил. Боль бы сорвал с сердца.
Горько.
Обидно.
Шарики, с картошку величиной, подкатывались под легкие. Дышать мешали.
Вздыхал, откатывая шарики эти.
— О-ох...
Но не терял надежды.
В силе декретов — не разуверился.
В правоте своей — не усомнился.
На Ленина смотрел. В глаза его, прищуренные, заглядывал.
— Только он понимал меня, — думал Петька, глядя на портрет.
Его заветы выполнять взялся.
Силы вливались в Петьку, энергия, бодрость.
Мускулы гимнастикой расправил.
Почти ночью, когда все уснули, Петька зажег коптилку. Карандаш химический взял да лист бумаги из тетради выдрал.
— Дорогие товарищи! — писал он в редакцию центральной газеты. — Я, пионер 107 отряда и фабзайчик при заводе „Плуг и Молот”, приехал сюда в деревню и узнал в этой деревне вот что: тут самое настоящее буржуазное засилье. Самый главный буржуй тут — помещик Лопухин. Он с кулаками снюхался и орудует вовсю. Мельницу держат своей компанией. Общество хотело ее взять за себя, а они постановление изорвали и грозят переворотом — слухи распространяют, что Керенский правительство держать будет. Шкуры с мужиков дерут, всячески выжимают и деньги, и хлеб — и что придется. За помол втридорога берут. А помещик даже из моста, который у мельницы, статью доходную сделал: если надо бабам перейти за коровами на другую сторону речки, он с них за переход по 2 яйца берет. За купанье лошадей у плотины — 5 фунтов зерна (у плотины самое глубокое место, где купают лошадей). Прижимает людей, а лесовщика здешнего в свои руки взял. Живет он у помещика — и слушается его во всем... Дедушку моего, у которого я живу, из-за него оштрафовали на 40 рублей, амбар описали. А Мокей, кулак, сруб поставил для продажи и садом помещика пользуется, деревья рубит на дрова. Шлите скорей обследовать наше село, а то будет плохо. Пока общество добьется саду, — помещик его весь вырубит.
Писал он в редакцию центральной газеты...
Г. Клуцис
Окно в это время звякнуло.
Не успел Петька поднять головы, как камень пролетел над ухом. В ведро ударился, в помои, стоящие у порога. Стекла заблестели на подоконнике. Подуло в избу, сквозняк пошел, воздух свежий.
Старик завозился на печи.
— Ой!
— Чтой-то, Петенька?
— В окно кто-то запустил.
— Господи, господи, — зашептала старуха.
С печи слезла. Ведро опрокинутое поставила.
Пойло плавало, на полу крошки, а среди них с баранью голову лежал камень.
— Ай, батюшки! — вздыхала старуха. — Эдак-то убить могут! — Глазами сердито сверкнула.
— Брось, Петька, брось всякие затеи, — не связывайся, не тягайся с большими... Не жить тебе на этом свете, не носить головушки.
И заплакала.
—Вот наказал господь за грехи наши под старость!
Всхлипывала.
Слезы в сарафан синий собирала.
А старик молчал, только ворочался на кирпичах.
— Уйти надо от них, — думал Петька. — В город уехать лучше. Не досаждать им. Бросить все — и уехать.
Глаза поднял на Ленина.
Испытующе смотрит он на Петьку, брови нахмурил.
— А до революции он тоже один боролся. Может, ему труднее было, — мелькнуло в голове у Петьки.
— Нет, никуда не уйду. До конца буду держаться. Уйти — значит струсить. Старики в беде останутся. Амбар заберут у них. Еще хуже прижмет Лопухин.
И решил:
— До конца буду бороться, до самого, до последнего.
Снова утихло все.
Подушкой дыру в окне заставил.
Письмо дописывать начал.
— Вот, дорогие товарищи... Прервать письмо пришлось. Камень в окошко ко мне саданули, чуть голову не прошибли. Два стекла в окне разбили. Не иначе, — Мокей — кулак это сделал. На днях с угрозами приходил ко мне. Заметку я написал про него. Стращает меня... Потом еще вот что: помещик-то в именьи у себя живет. Дом у него большой. Я знаю, что по декрету он должен быть выселен, но как это сделать, не знаю. Нужен нам дом-то, — обществу собираться негде, — в сарае собрания бывают. Народного дома у нас нет. А я вот хочу отряд пионеров сформировать. Клуба у нас нет, работать негде. Спектаклем хочу их заманить. Пожалуйста, товарищи, пришлите кого-нибудь из центра обследовать наше село, да поскорее, а то у дедушки моего амбар отберут, — из-за меня он страдает, — я виноват тут. Насолил я тут Лопухину и кулакам всем.
Скорей, пожалуйста, отвечайте, товарищи.
С коммунистический приветом пионер
Петя Травин.
Адрес свой написал в конце.
Конверт сделал из бумаги. Склеил его мукой — и письмо вложил.
Уснул потом крепко.
19
Спал он до обеда.
Солнечные пятна по комнате бегали, будто разыгравшиеся котята, — по лавкам прыгали, по полу, зарывались в веник, лежащий у двери, в ведро с помоями залезали, в то самое, в помятое, — словно котята рыжие, чтобы полакать из него.
Глядела бабка на ведро, — ворчала.
А Петька сказал:
— Не ворчи. Встану и починю. Я умею починять.
— Как не уметь тебе!.. на то и учишься... чинил бы ведра, не совался бы в общественные дела, так лучше было бы.
— На все я учусь... и жить.
Письмо пошарил под подушкой. Тут оно.
За пазуху спустил его.
Улыбался.
Довольный чай пил.
Молчали старики.
И лепешек вкусных, горячих на столе не было.
А хлеб черный вкусным показался.
После чаю он сказал старикам:
— К тете я пойду, в Каргаши.
Забеспокоилась старуха. К Петьке ближе подвинулась.
— Да ты не серчай, Петя. Мы ведь добра тебе желаем. Не зря ведь тебе говорим. Мало ли как ни браним, — потому и браним, что — родной.
— И в самом деле, — заговорил старик, — куда ты пойдешь, — чем тебя тетка кормить-то будет? Она сама с корки на корку перебивается. Добра у нас не хватит что ли прокормить тебя?
Уговаривать стали.
Не захотелось им отпустить Петьку в Каргаши к тетке бедной. Ждали ведь его целую зиму. Сердце изболело. Родной он им.
Невзгоды забылись сразу.
Старуха под пол слазила. Яиц свежих достала.
— Я тебе яичек сварю, Петя.
— Я наелся, не хочу.
— Что не хочу... Что губы-то дуть?.. Родные ведь мы!
— Да я и не сержусь на вас... Что вы?.. Я ведь не надолго к тетке-то... Навестить хотел ее.
— Так бы и сказал... Лошадь бы запрягли.
— Я и пешком схожу.
— Что пешком... Лошадь-то так стоит, без работы, овес ест. Промять ее надо, а то застоялась.
Отговаривался Петька. Но от доброты стариковской да от заботы — не отговоришься.
Запряг старик лошаденку пегую, белыми да черными пятнами обклеенную, — и поехали.
Старуха за ворота провожала.
Яичек да сала в узелок навязала.
— Яички-то дорогой съешь, как захочешь... Протрясет ведь. А сала-то тетке дашь. Пусть она тебе поджарит его. И старику наказала.
— Ты уж, старик! смотри за ним, чтоб не нуждался он ни в чем. Денег захвати с собой, может, купить что понадобится.
И тепло было Петьке от радости да от доброты.
Еще больше в себе уверился.
Письмо прижимал под рубашкой, за пазухой. Согревал его.
Скрылась телега за домами.
А старуха вернулась домой. На коленки перед иконами темными пала. Просила богов своих древних, седых, чтобы исправили они дитя юное, неразумное, наставили бы его на путь истинный, на дедовский, шли которым — и деды и прадеды.
20
После поездки в Каргаши томился Петька, ждал. Высчитывал дни, часы, то время, когда придет письмо в Москву, когда прочтут его, какие примут меры и т. д. Верил, что приедет комиссия, разберется. От ожидания да от томления скучно стало. Дни и часы были долгие до бесконечности. К ребятам стал чаше ходить. У кузницы, на бугорке, встречал их. Костюм свой расхваливал перед ними. Трусики показывал, галстук красный. О здоровье говорил. Мускулы свои пробовал на их шеях. Книжки раскладывал перед ними, журналы пионерские. В руки давал их. Картинки в журналах разъяснял — и в „Пионере“ и в „Барабане“.
А однажды пришел и заявил им:
— Хотите, ребята, пионерами стать?
— Гы-ы.
— Пиванерами!
— А что мы будем делать?
— Отряд свой устроим. Книжки будем читать, учиться. Мускулы свои укреплять станем. Оденемся все вот так, как я, и будем ходить, маршировать. Барабан купим, футбол, — это мячик такой кожаный — с Мишкину голову будет.
— Гы-ы, — засмеялся Мишка.
И носом швыркнул.
— Пыль в глаза пустим кулаковым ребятам. В отряд их не примем.
— Гы-ы.
— А на што костюмы купим?
— Я уж придумал... Спектакли будем устраивать за деньги. На выручку журналы будем покупать, книги.
— А костюмы?
— И костюмы.
— Купили!..
— Н-но...
— Ей богу.
Обрадовались ребята.
— Давай, устраивай!
— А что нам делать?
— Я научу.
И книжку записную развернул, карандаш тоненький, синенький вынул.
— Записывайтесь, подходите!
— А нам ничего не будет?
— Да уж коли соорганизуемся, так никакой чорт нас не тронет.
— Валяй тогда.
— Пиши.
— Меня.
— Меня.
— Стойте, не толпитесь. Ты, Цыганок, отойди... не стеклянный ведь.
— Не лезь ты, Колька! В зубы дам.
— Вы, воронье, тише. Пионерам не полагается галдеть.
— А как?
— Организованно надо делать. В очередь становитесь!
— За свечками что ли?
— Не бузи... А то плюну, уйду.
— Пиши, Петька, пиши, — в очереди мы.
— Давно бы так.
Записал.
Выстроил ребят в один ряд и говорит: — Будь готов!
Г. Клуцис
На первых порах восемь человек записалось.
Ванька Цыганок первый в списке значился.
Посидели.
Поговорили.
Про московские организации говорил Петька. Правила пионерские объяснял. И тут же репетицию с ними устроил.
Выстроил ребят в один ряд — и говорил:
— Будь готов!
Ребята отвечали:
— Всегда готовы!
И руку ко лбу приставляли.
— Вместе надо делать, отчетливо... А то как кашу хлебаете.
— Гы-ы.
— Ты не так руку делаешь, — говорил Цыганок Гришке Бубенцу, стоявшему рядом. — Вот так надо.
И показал.
Руку лепешкой делал, на затыкок ее забрасывал.
— И сам-то не так, — смеялись над ним.
— Вот так надо.
— Нет, вот так.
И все вместе наперебой показывали, как надо делать. Увлеклись ребята.
Слушали.
Запоминали правила.
Ветерок дул. Раздувал их волосы. Рубашки пузырил. За штаны за широкие, заплатанные, хватал. Разные все ребята, — белоголовые, русоголовые, росту разного, — носы — у кого луковкой, у кого лягушкой, а у кого — стрючком гороховым.
А Петька ходил перед ними — и говорил и говорил, — что полагается делать пионеру, и чего не полагается.
— Будь готов!
— Всегда готов! — кричали ребятишки расходясь.
И дома перед лошадьми, перед коровами, перед столбами, стоящими на дворе, — вытягивались и говорили:
— Будь готов!
И радовались.
21
Петька в этот день особенно радостным был. Со стариком разговаривал, со старухой. Соглашался с ними, — что говорили ему. О Москве говорил, о ребятах московских. С кошкой играл, мяукал.
Ребята к нему приходили, кричали;
— Запиши нас в пиванеры!
— А правила знаешь? — спрашивал он их.
— Нет.
— Ступай к Цыганку, — он расскажет.
— Что это, Петя, за пиванеры такие? — спрашивала старуха.
Объяснял Петька...
— Господи, господи, — шептала она. Слова-то какие пошли нынче.
Опять задумываться Петька стал, будто облако какое нашло на него. Работу свою дальнейшую обдумывать стал. О спектакле думал, о помещении.
— Если не удастся у помещика дом отобрать, так в сарае спектакль устроим, — заключил он.
Ночью, которая быстро прошла, плохо спал. Во сне обучал ребят, работал с ними, говорил.
— Старик, уж не заболел ли Петька-то? — говорила старуха, тыча старого под бок. Что это он все разговаривает? Уж не лихоманка ли какая у него, не тиф ли?
С печи слезала. Подходила к кровати Петькиной, прислушивалась — дыхание запирала в груди своей высохшей, руку холодную, костлявую на лоб Петькин горячий клала.
Вздрагивал Петька.
— Кто это?
— Это я, — шамкала старуха. — Бредишь ты, паренек, очень. Не болен ли?
— Нет, бабаня, здоров я... Руку когда ты положила на лоб — Мокей мне приснился. Мы будто с ребятами репетицию делаем, а Мокей подошел — и по лбу меня поленом мокрым ударил.
— Господи, с какими ты словами спишь?.. Репетисый, репетисый... с такими словами бог знает что присниться может... Бога поминая, с господом спи.
Перекрестила — и ушла.
А утром бабы приходить стали со всего села.
Еще когда умывался Петька на дворе у чугунного рукомойника, когда фыркал, окачиваясь холодной водой с головы — пришла баба Аксинья, мать Гришки Бубенца.
Набросилась.
— Что ты, Петька — такой-сякой, не мазаный, — ребят наших мутишь? Пошто пишешь их без спросу родительского?.. Выпиши моего сейчас же. Не уйду я от тебя. Исколотить могут... Ишь какой гарнизатор нашелся, прости господи!
И другие приходить стали, кто с угрозами, кто с мольбой. Чуть на коленях не ползали, прося:
— Выпиши, Петя, Христом богом молю...
Уговорил Петька баб, — объяснил, что дурного тут ничего нет. Объяснил, для чего организация нужна и т. д. и т. д., — но не слушали бабы.
Половину ребят вычеркнуть из списка пришлось.
22
Недельки через две так, — человек неизвестный в деревню приехал. Куртка кожаная на нем и сапоги новые с высокими голенищами. Остановился он на краю, в последней избе. В новые ворота зашел и расположился в комнатушке, перед окнами которой высохшая береза стоит. Как взошел он в ту избу, так и пошли слухи по селу, лисицами по во всем дворам зашмыгали.
Струсили мужики — самогонщики. Аппараты свои самогонные разбросали. Подозрение иметь стали на человека приехавшего. Думали:
— Самогонщиков накрывать приехал.
— „Уголчека“, „уголчека“, — шептали мужики.
По всей деревне разошлось это слово.
В другие деревни перебросилось.
— „Уголчека“! „Уголчека“!
Слухи тайные пошли, вести.
У Жеребцовых в избе свадьба готовилась. Самогону было, наверно, сорок ведер. Больше всего страху пришлось им принять. Знали, что с первым обыском к ним пойдут. К соседям перетаскивать самогон, — все равно найдут. Да и соседям за чужой самогон отвечать — не радостно.
Плохо пришлось Жеребцовым. Больше всех страху приняли. Беда!
Собрался тогда Жеребцов к человеку этому, неизвестному. Самогону первяку, самолучшего, четверть взял. Пошел в последнюю избу, в ворота новые — и бух человеку неизвестному в ноги.
— Товарищ!..
Язык заплетается, как у пьяного.
Еле выговорил:
— Прослышали мы, зачем вы приехали... Известно... Свадьбу нельзя без самогону справлять... Жених я.
И четверть зеленой самогонки на стол поставил.
— Так что, товарищ... вы того... в положение войдите.
Посмотрел человек неизвестный на жениха, на самогонку зеленую все равно, что нюхательным табаком настоенную. Глазами стрельнул.
— Убери ее, — сердитым голосом сказал. — На глаза не показывайся с ней.
Опешил жених. Капли на лбу заблестели. И говорить не знает что. Стоит перед столом, перед четвертью самогона мутного, будто перед снарядом, который взорваться хочет.
А человек незнакомый, суровый, отвернулся — и спать ложиться стал.
Постоял, постоял жених — и пошел, самогонку на столе оставив.
— Стой! — крикнул тогда человек неизвестный.
Чуть не упал жених. У порога запнулся.
— Забери с собой... Я не за взятками приехал... Как твоя фамилия-то?
Как спросил про фамилию,
как схватил жених самогонку, —
только его и видели!
— Чудак! — говорил потом человек неизвестный.
А сам по дворам ходить начал. Разговоры повел разные. С толку сбились мужики. Подумать не знали, — зачем приехал человек этот. А спрашивал он про луга, про пашню, про сельсовет, про помещика иногда слово закидывал, про все помаленьку спрашивал.
Потом к Петьке зашел.
Посидел, поговорил.
Чаем старуха угостила его, огурцами солеными, капустой. Сидел он за столом. О том, о сем говорил.
Шутил.
Потом Петьку попросил, чтобы на двор сводил он его, — хозяйство бы показал. — Для статистики, мол, нужно.
Ушли на двор-то, а старик подумал:
— Опять комиссия какая-нибудь!
На дворе незнакомец Петьку за руку взял:
— Ты писал в редакцию?
Оторопел Петька.
— Говори, не бойся!..
— Я, — еле выговорил от радости Петька.
— Тише, чтобы не услышали. Поговорить надо.
На задний двор увел Петьку.
— Я из центра... Для предварительного ознакомления приехал.
— Из центра, из Москвы!
Чуть не закричал Петька.
Краска плеснулась в лицо.
Уши загорелись.
— Я ведь ждал!..
И все, что накопилось у него, — все высказал.
Долго говорили.
Все рассказал Петька, до капельки.
Жил этот человек неизвестный в селе.
Бумажки в Москву отправлял.
Петьку частенько видали с ним.
23
Ты, Цыганок, выучил роль-то, которую я тебе дал? — спрашивал Петька, сидя на камне на берегу, недалеко от кузницы. — Выучил, — говорил Цыганок, делая глаза свои круглыми, как черника-ягода. — Я по-настоящему сыграю, будто в самом деле... Только вон Егорка губастый с ролью-то не справляется: как я его начну бить, а он вместо, чтобы реветь, сам драться начинает. Чуть глаз не вышиб мне... Вот, посмотри.
И Цыганок показывал глаз свой, под которым синяк был, похожий на то, будто шкурки дряблой картошки приклеены под глазом.
— Что же ты, Егорка, изба твоя деревянная! — обращался Петька к белоголовому парню. — Я ведь говорил тебе, что сопротивляться не надо. Ты реветь должен, понимаешь, — ты барчук будто.
— Как мне не сопротивляться?.. Больно ведь!.. Цыганок, проклятый, по-настоящему бьет меня. Я ему говорю: — ты нарошно бей, а он взаправду лупит меня... Так ведь можно ребра перешибить.
— Что ж вы не ладите? — укорял их Петька.
— Ладим мы, — сказал Цыганок. — Я его бью потому, чтобы он по-настоящему ревел, а он не понимает это. Я по-настоящему хочу сыграть, чтоб все село от игры нашей ахнуло. — Во, мол, как!..
— Чтоб небу жарко было!
— Чудаки вы, право, бузотеры! — говорил Петька. — В театре все по-настоящему делается... так, для виду... Надо только, чтобы публике казалось, что это по-настоящему делается. А так, как вы хотите играть, — ни один артист не согласится, — ни за какие блины.
— Гы-ы.
— Положим, что застрелить кого надо по пьесе, — так в самом деле человека стрелять что ли?
— Г ы-ы.
— Эдак только мужиков обманывать, — недовольно согласился Цыганок, — не верят они.
— Поверят.
— Ладно... Я тогда нарошно буду бить. Только ты, Петька, скажи Егорке, чтоб он ревел, как следует, чтобы глаза мокры у него были.
— Луку я наберу в карманы, — соглашательски говорил Егорка.— Когда надо, луком натру глаза, — вот и побегут слезы; и реветь буду как следует, будто кнутом меня порют. Только чур, Цыганок, — не бить шибко!
— Ладно, ладно... Вопрос исчерпан.
— Г ы-ы.
— Ну, а вы... Колька, Семка... — ткнул он пальцем на ребят, сидящих в кучке, которые книжку в руках мусолили, — выучили свои роли?
— Выучили.
— Только ты, Петька, к спектаклю табаку нам достань. Тут в роли-то сказано, что курить надо... А у нас табаку дома нету.
— Ладно, достану.
А Цыганок свое предложение внес:
— На што табак... Можно из моху сыгарки сделать, — за мое почтенье будут куриться.
— А ты не суйся, — огрызнулся худенький, курносый мальчишка! — что лучше курить, — мох или табак. Нет ты, Петька, табаку достань!
— А знаешь, что пионерам не полагается курить?
— Знаю... Но тут, в роли сказано...
— Сказано, сказано...
В ладоши захлопал Петька. Ребят в кучу собрал. На камень уселся.
— Ну, давайте репетицию делать... Кто первый выходит?
— Я што ли? — спросил Егорка.
— Ну да, ты. Мокей что ли за тебя выйдет?.. Барчонка играешь ты... Вид такой прими, — будто на гулянье вышел, с собачонками... Вот так... Да ты не сгибайся. Голову прямо держи. Иди твердо. Что ты, в самом деле, ровно лошадь опоеная. Барчук так не ходит.
— Так что ли? — выпрямился Егорка.
— Ну, так... Только ноги не топырь в стороны... А то купец получается.
— Не умеет он, — сказал мальчишка в красной рубахе.
И носом шмыгнул.
— Петька, дай я сыграю эту роль.
— Я и сам сыграю, — озлился Егорка.
Кулак подсунул мальчишке.
— Так что ли, Петька?
Стараться начал.
— И сам сыграю... Дома учиться буду, перед зеркалом.
— Так, так, — одобрял Петька.
Репетировал. Муштровал ребят. Показывал, как надо делать, как играть.
А вечером, когда кончили репетицию, — в село пошли с песнями. Рядами шли.
Пели:
Взвейтесь кострами
Синие ночи.
Мы пионеры —
Дети рабочих.
Близится Эра
Светлых годов.
Клич пионера:
Всегда будь готов!
Петькина песня, — Петька научил.
Разливалась она над рекой, над водой синей. В деревню летела, в лес. Грудь выпячивали ребята. Один другого перепеть старались. Даже коровы на другом берегу услышали их. Головы поднимали от травы зеленой. Жевали, а глазами большими, глупыми смотрели на ребят.
— Дескать, что это такое.
А у села ребята навстречу высыпали, кулацкие сынки. У дворов своих играли они.
Дразнились:
— Пиванеры, пиванеры.
— Пиванеры появились у нас.
— Глянько, глянько!
— Сопливые!
24
Месяц прошел после того, как неизвестный человек в деревню приехал. Никто не знал, — зачем он приехал.
А потом все узнали.
Комиссар приехал.
Солдаты с ним со звездами красными, с шагом твердокаменным. Вверх тормашками все полетело.
Помещика из усадьбы выселили, — со всем барахлом вытряхнули.
На подводы нагрузился он — и уехал.
— В уездный город, сказывают.
Мокей мужик в подводы ездил с ним и другие кулаки. Мебель, хомуты, книжки — все это было свалено в общую кучу и вывезено.
Ахнули мужики после дел таких.
Говорили:
— Разорили гнездо!.. Грача выжили из сада!
А Петька козырем ходил.
Радовался.
Мельницу обществу отдали и озеро. Всем, всем — всему народу. Вот радости-то! — Больше, чем в Троицу, радости было. На озеро весь народ бежал. Кто с удочками, кто с ведрами, кто с чем...
— Рыбки поедим!
— Карасиков! — кричали все.
И бабка лещей достала. На сковороде поджарила двух в масле и на стол поставила к обеду.
— Ешь, Петя!..
Ел Петька.
Говорил:
— Во как я Лопухина-то! Видали... Я говорил, что декреты знаю... По-ленински я их!..
— Мотри, мотри, Петя, — говорила старуха, — кабы худа не было!
— Ничего не будет до самой смерти! — уверенно говорил Петька. — Спектакль теперь скоро смотреть будете. Я уж там сцену облюбовал. Вот посмотрите.
Потом икону из усадьбы притащил.
— На-ко, бабушка... Это тебе помещик в наследство после себя оставил. Молись. А мы без иконы там обойдемся. Я Ленина туда перетащу.
— Украли, поди, икону-то?
— Что ее воровать-то?.. Не нужна она помещику стала, не помогла видно... На мусорной куче валялась.
— Господи, господи, до чего дошел народ!
Крестила Николая угодника, белобрового.
На божницу его поставила, рядом со своими богами, старинными.
— Спасибо тебе, Петя, и на этом!.. Горя-то из-за тебя сколько принять пришлось! Спасибо...
— Пользуйся, бабушка, пользуйся!
А старик все молчал.
Потом спросил:
— А амбар-то отберут у нас?
— Не-ет. Будь покоен. Я комиссару сказал про амбар-то. — Велел не беспокоиться тебе. Лесника уже убрали. А лес, говорит, передается крестьянам... Местного значенья он, лес-то, наш... Все дела аннулируются.
— Это как — аннулироваются?
— А так. Всякие дела — суды и все прочее — прекращаются. Лес передается в ведение сельсовета. А общество само будет разбирать во всех спорах из-за леса.
— Та-ак... А Мокей почему на свободе?
— Мокей...
За ухом почесал Петька.
— Улик против него мало.
25
С гурьбой ребят звонкоголосых отправился Петька в усадьбу.
Ворота в ней настежь были. Деревья в саду желтели уже. Листья ровно мыши стаями бегали по дорожкам, избитым колесами и балкону.
Голоса ребячьи звенели в пустом доме. Гудели по залам, блестящим, и — будто голуби — вылетали наружу, пробиваясь через широкие окна.
— Угу-у.
— Петька-а!
— Ванька-а!
— Вот — где буржуи проклятые жили.
— Ого-о.
Кресла старые, разбитые, валялись посреди пола, мусор, бумаги.
— Метлы давай, веники.
— Подметай!
Раз, два — подмели ребята.
Порядок навели.
Краски в амбаре нашли разные, неразведенные. Поплевал Петька на пальцы. Растер в мокрых пальцах краски.
— Ого, годятся! Используем их.
— Хорошие краски.
— Цыганок, забирай их! Тащи в зал.
Бумаги разные тут же, в амбаре, нашли, — портреты, газеты.
— Ребята, забирай и это! Лозунги будем писать на бумагах этих.
— Да они исписаны.
— Ничего, оборотная сторона — чистая.
В зале на полу писали лозунги. На коленках ползали с красками в руке, с кистями, сделанными из лошадиного хвоста. Головами стукались, как бараны. Петька — на оборотной стороне портрета царя Николая II выводил:
— „Пионер — всем детям — пример“...
— Петька, ты подправь-ка мне вот тут!.. Буква у меня раскорячилась.
— А „коммунизм“ с большой буквы писать?
Указывал им Петька, подправлял что не так.
Солнце глядело на них, как они работают. Через крышу стеклянную влезало оно к ребятам, через окна. По залу ходило — будто десятник какой. На лозунги посматривало, по голове гладило ребят.
— Дескать, молодцы, ребята, — работайте.
Потом, видно, надоело ему шататься зря, ушло оно. Экраном желтым повисело на стене — и вернулось на ночь, оставив ребят в потемках.
— Ребята, а темно ведь? Свету надо. Лозунги-то сегодня же надо развесить?
— Обязательно сегодня!
— Непременно!
— Лампу кто притащит? У кого есть лишняя?
— У нас есть.
— И у нас.
— Только керосину нету.
— Тащите, достанем керосину.
В потемках посидели, поговорили.
А потом свет появился, бледный. Коптилка-лампа на окне стояла и залу и сад освещала, дерево, то, с которого буржуйское собранье видел Петька.
И, когда запели петухи, — и в окнах, и на крыше стеклянной рассвет белым лебедем забился, — на стенах висели плакаты, лозунги красовались в простенках, над дверями и везде, где можно было лепить их.
— А вот здесь я Ленина устрою, — говорил Петька, указывая на то вылинявшее место, где портрет усатого генерала висел.
— Кажется, все сделано, — говорил Цыганок.
И расходиться хотели ребята.
— Нет, ребята, не кончено! — задержал их Петька. — Надо еще афиши писать.
— Завтра.
— Ничего подобного. Сегодня.
И написал афиши буквами большими с четверть величиной.
И, расходясь, расклеили их по всему селу, — и на столбах, и на воротах.
Солнце, поднимаясь из-за холмов, из-под реки, прочитало эти афиши.
И даже коровы, выходя из ворот, останавливались у больших пестрых афиш.
Косились на них.
Мычали.
— Му-у-у.
Даже коровам не хотелось уходить на выгон, не прочитав интересных объявлений.
26
Самая крикливая афиша висела на перекрестке, на каменном столбе, где богородица была вделана. Глазами грустными глядела она на афишу, на платье новое, которое ребята приделали ей.
А на платье у богородицы написано:
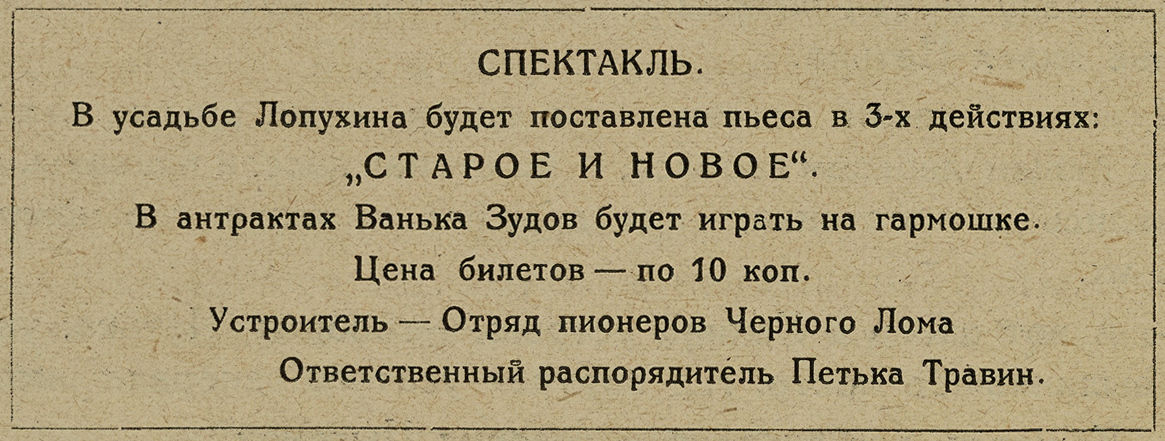
— Господи, господи!.. Шептали старухи, глядя на новое платье богородицы. Царица небесная... Не допусти издеваться над собой.
Мимо проходили, ругаясь.
А сорвать боялись афишу.
— Окаянные...
Торжествовал Петька, глядя на буквы большие.
— Записывайся, ребята, в отряд к нам, в пионеры! — говорил он еще не записавшимся.
— А на спектаклю пустишь?
— Пущу, если работать будете с нами.
— Будем... запиши.
— А меня запишешь? — спрашивал большеголовый, пузатый мальчишка.
— Не записывай его, не записывай, — закричали ребята. — Он буржуй, он кулаков сын... Маслобойка у них... Пять лошадей вот эких, гладких.
— Не запишу, брат!..
И по пузу трепал мальчишку большеголового.
Уходил тот, как побитый.
Спешно работали ребята в усадьбе, — сцену мастерили. Гвоздями старыми, выдернутыми из стен и отовсюду, прибивали доски. Декорации мазали, сшитые из мешков. Пугались ноги в стружках пахучих. Тропа стружек на улицу была. Стружки шевелились в углах. Голоса звенели.
Пели:
„Мы кузнецы, и дух наш молод...“
Под песни работа шла.
Фуганок стружками пыхал в руках Петькиных.
— Э-эх!
— Живо!
Ребятишки заходили в усадьбу посмотреть на работу пионерскую. Губы поджимали старухи.
— Э-эх!
— Не мешай!
Именинниками ходили пионеры.
Грудь выпячивали перед ребятишками перед маленькими.
— Пиване-ер, — говорили те.
Доски руками щупали. Лозунги трогали.
— Это что у вас?
— Лозунги.
— А вот это?
— Лозунги.
— Все лозунги?
— Все.
Ленин смотрел из лозунгов, из гирлянд пихтовых, — щурился. По-ленински работали ребята.
Ждут, не дождутся спектакля жители.
В каждой избе говорят о спектакле, о пионерах:
— Клубу они там устраивают...
Петькой не нахвалятся.
Только вдруг пропал Петька. Нету Петьки. Слух про это по всему селу прошел. Пропал Петька.
С ног сбилась старуха искавши.
По соседям бегала.
— Не видали Петьку?
— Не видали, — везде отвечали ей.
И старик бегал, лаптями шлепая.
Все искали.
Санька комсомолец всех ребят на розыски мобилизовал.
Нет Петьки.
Никто не видел.
Никто не знал, где он.
Из переулка из какого-то слово такое вывернулось: не жданное, не гаданное.
— Убили его, убили... За дела...
Кто это слово сказал, неизвестно. Будто на кольцо оно вспрыгнуло — и завертелось на нем.
— Убили... Убили...
Вот какое слово!..
Заплакала старуха, на колени упала перед богами своими перед старыми. Глаза мутные поднимала на богов, но не видала их. Слезы не давали видеть богов. Камешками, хрусталиками выпадали они из глаз — и на сарафане синем блестели.
Ноги подломились у старика, ровно жилы старые ножом острым перерезали...
— Петька, Петенька, Петяш...
— Убили.
Этакие слова перемешались у старика в голове, прыгали, скакали как блохи, муравейником копошились.
— И на што было связываться с Лопухиным, с Мокеем?..
Губы еле двигались.
Изба кругом шла. Скамейка у печки, на которой он сидел, пятилась куда-то.
Соседи приходили, утешали. Слова теплые, ласковые говорили.
Назад пошла жизнь, назад.
— Труп хоть найдите его, — говорила старуха Саньке (из комсомола который), — хоть похоронить бы его довелось.
Повсюду искали Петькин труп, — и в лесу, и на берегу, на песке.
По кустам прибрежным лазили, по осоке.
И трупа Петькиного нет.
Комиссару пожаловаться, нету его, — уехал комиссар.
К Мокею заходили, спрашивали:
— Ты Петьку не видал?
— Нет... Какое мне дело... Запуган я теперь... Обезоружен... В бороду усмехается, когда уходят спрашиватели.
27
Петька в бане лежит связанный на полке.
Веревками сковано тело, мозжит все. Рот забит куделей, не выпихнешь ее, — через нос сопеть приходится.
Целый день пролежал без памяти.
— Где я? — мелькнуло у него, когда очнулся.
И припомнил, как мешок на него накинули в темном переулке, когда из усадьбы возвращался. Кто-то сильный, здоровый схватил сзади, врасплох напал.
Отбивался от него.
За бороду длинную хватал.
Дыханье жаркое из бороды жгло.
Все силы свои собрал, какие были.
В переносье злодея, будто гирей...
Но не помогло.
Связали...
Несли на руках будто щенка какого паршивого. В баню в эту бросили — и дверь приперли чем-то.
О-ох. Болит тело.
Огляделся Петька, темно. Окошечко в бане маленькое, голова не пролезет в него. В отдушину небо видно, звезды. Звезды красные, будто глаза у волков, налитые кровью.
Жутко...
— Погибнешь ты, парень!.. Отец-то твой такой же задорный был. Этакие слова вспомнил, говоренные старухой.
— Погибнешь...
Жутко стало одному.
Чепуха разная полезла в голову.
— Двенадцать часов теперь, наверно?
Как вспомнил про двенадцать часов.
Как припомнились сказки разные: про чертей, про леших, про покойников.
О-хо-хо-о...
Мороз по коже полез, ровно веткой мокрой по спине тереть начали.
Страх.
Раньше в баню боялся ходить.
Страхи какие про баню рассказывали!
Ой-ей-ей, какие!..
— Чепуха ведь это, — говорил себе Петька, — чепуха!..
Утешал себя.
Глаза закрывал.
А самому казалось: вот на каменке появится кошка черная, глаза у ней синие. Спину дугой выгнет, хвост подымет и когтями белыми камни скрести будет.
— Мя-у.
Будто угли ел Петька.
Будто известку ковырял ногтями.
За сердце его схватило. Съежился весь. Еще сильнее впились веревки. Еще сильнее заныло тело. Ножами боль со всех сторон протыкать начала.
— О-ой!
В окно глянул.
Чешется кто-то об окно.
— Никак чорт?
Нос у него белый...
Ресницы белые...
Хвостом стучит об стекло.
— Да чепуха это! — говорит Петька, — Репей, наверное, под окном... Ветром его качает...
Вдруг загремело в предбаннике. Шаги послышались. Руки по двери зашарили.
— Убивать, убивать пришли, — мелькнуло у Петьки, — Мокей, наверно.
Глаза его страшные, волчьи вспомнил.
— Придет... Задушит... Бросит куда-нибудь... В колодезь, может. Страшно зубами зачокал, как собака загнанная.
— Прощай все... Жизнь прощай... Не видать Москвы. Ребят не видать... Спектакля не выйдет... Отряд распадется...
А в предбаннике возятся.
Палкой дверь была приперта.
Убрали палку.
Дверь за палкой отскочила.
В угол прижался Петька. Дыханье запрятал.
Кто-то вошел в баню, — не разберешь в потемках:
— Кто? Мокей, наверно...
Казалось, вот-вот руки волосатые протянутся к Петьке. Слышал Петька, как спичку из коробки доставали.
Зажглась спичка.
Вот-вот руки волосатые протянутся к Петьке...
Г. Клуцис
Глянул Петька:
Чужие, незнакомые люди стоят у двери, будто медведи лохматые.
— Чужие... — мелькнуло у Петьки. — Из другой деревни...
— Давай, выворачивай котел, — говорил один грубым голосом.
— Нет ли белья тут?..
Глазами шнырял другой.
— Таз-то вон тут захвати... Медный он... За рубль продать можно. Глядел, как шарились.
— Воры, — подумал...— Заметят?
Котел выворотили медведи. Унесли его.
— Бежать, бежать...
Сердце в комочек сжалось.
— Уползти из бани.
С полка свалился. Пополз, как змея, опутанная веревками.
Вот уж до порога дополз.
Опять шаги.
Идут...
— Сейчас наступят...
В сторону откатился, к бочке, в которой щелок был. Прижался к ней.
Опять спичку чиркнули.
— Терентий, тут кто-то есть!
Схватил Петьку. Как кошку подняли за шиворот.
— Кто ты?
— Почему связан?
Молчит Петька, не отвечает.
Видят — рот у него завязан..
Куделю вытащили изо рта.
— Кто ты?
— Я...
А сам говорить не может: рот онемел, скулы не ворочаются.
— Не кричи, а то убьем.
Пригрозили.
Вытаскали все из бани.
Потом в мешок затолкали Петьку. Завязали его, как куль ржи и вынесли. В корыто положили, видимо, в другой бане украденное. Слышал Петька, как телега заскрипела по огородам.
Голова билась о что-то твердое.
— Куда везут, куда?
Ехали долго.
Мост каменный проехали. Свернули на дорогу окольную по кочкам. Свежесть почувствовал Петька, холодок.
— Не видать теперь снегов весной по оврагам...
Ветки хлестались в телегу.
Потом лошадь остановилась.
— Бросай!..—сказал грубый голос.
Взяли Петьку — и выбросили.
Головой о что-то стукнулся.
В воду шлепнулся.
Холодная вода... Под бока вода подбираться стала.
28
Идет, идет!
— Вот он!
— Петька идет! — закричал Цыганок с террассы, из усадьбы.
— Где идет?
Все ребята на балкон высыпали.
И верно.
По поскотине у прясла идет Петька. Тихо идет по траве, скотом выбитой. Качается под ветерком легким, как паутина.
— Петька-а-а!
Навстречу побежали ему. Пятками засверкали, будто пятаками медными. Один другого перегоняют:
— Петька, где ты был?
— Где?
И опешили.
Губы у Петьки белые, все равно что мелом вымазаны. Галстук красный, вылинявший — на боку. С штанов-трусиков каплет. Мокрый весь.
— Что вы рты поразинули, чирий вам на нос?
Но не рассмешил ребят.
— Где ты был, Петька?
— Ворон ловил да в карман садил.
— Нет, верно, где?
— К тетке в Каргаши ходил.
— А синяки на лбу пошто?
— Девки нацеловали.
— Гы-ы.
— Ага.
Ну, а мокрый-то пошто?
— Это чепуха, высохнет... Реку переплывал... Как дела со спектаклем?
— Не было...
— Ты подвел...
— Где ты пропадал-то?
— Заблудился я, ребятушки. Шел от тетки из Каргашей и заблудился. Ходил, ходил, — никак не выйду. А эту ночь в Волчьем болоте ночевал, на березе. Окружили волки проклятые и всю ночь спать не давали — от того и вид у меня такой, расфуфренный... Ну, айда-те: писать, мазать и к спектаклю готовиться! Живо!
Пошли.
Снова ушла мертвечина из усадьбы.
Снова закипела работа.
Но не переломил себя Петька, усталость свою. Голова кружилась у него. Тело отдыха просило.
— Работай, ребята, ну-ка!
А сам фуганок откладывал в сторону, садился. Искры вокруг глаз, как комары кружились. В ушах жужжало.
Желудок тосковал по пище.
— Ребята, хлеба у вас нет?
— Нету.
— Проголодался я... Кто достанет мне хлеба?
— А ты домой ступай. Старики-то и не знают, что пришел ты... В горе они...
— Не пойду я, — упрямился Петька...— Работать надо скорей. Со спектаклем торопиться. Мне ведь в Москву уезжать надо.
— Когда?
— Скоро.
А афиши-то, Петька, сорваны!
— Сорваны? — Новые напишем.
И тут же за афиши принялись за большие, за пестрые. Буквами (с четверть величиною) выводили:
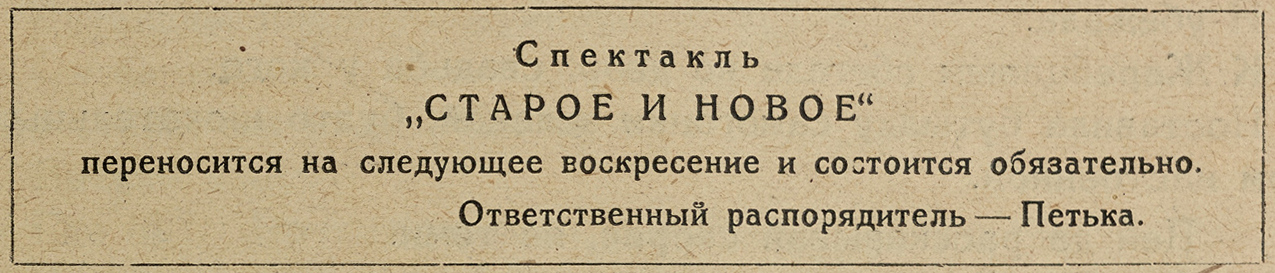
29
К старухе человек зашел с ружьем-шомполкой.
Носик красный, малининкой.
— Здравствуй, бабушка!
— Здравствуй, родимый!
С печи слезла охая. Глазами тусклыми замигала на человека. Признать старается, кто такой?
А он, человек тот, шомполку в угол поставил. Сзади с плеча снял — и на лавку —у печки положил.
— Ты откуда будешь?
— Я из Пестериной деревни.
— Куда идешь?
— К тебе зашел... Хоть не по пути, а дай, думаю, зайду.
— Дело какое?
— Да, дело... Ты вот что, старая, принеси-ка бутылочку самогонки, угости меня.
— За что это?
— А принеси, так узнаешь...
— Кто ты такой есть?.. Уж не про Петьку ли что знаешь?
— А вот и про него.
Где он?
Заторопилась старуха. Платок с головы скинула, чтобы лучше слышать.
— Где он? Рассказывай скорее, не томи, родимый, — скучились мы! Старик лошаденку свою загонял. Двое суток ездит... Где он, где Петенька-то, говори?
Мужик опояску скинул. Бороденку расчесал.
— Бутылочку, бабушка, бутылочку!.. Не скупись!..
— Ладно уж... что ты за человек есть?..
И убежала.
К Жеребцовым сбегала во двор, свадьба у кого.
Поставила бутылку самогонки зеленой, будто нюхательным табаком настоенной.
— Пей да рассказывай скорее, не томи.
— А ты закусочки еще дай.
— Фу ты — какой человек, — заворчала старуха.
И под пол за огурцами слазила.
Налил мужичок стаканчик. Опрокинул его, заглянул на донышко, откашлянулся — рассказал:
— Пошел это я за зайчишками. Ходил, ходил по кустам, по березникам, по ямам, — нет никого, ни один сукин сын не встретился. Домой уж хотел итти. Потом иду это я недалеко от Волчьего болота — вижу, — косыга скачет... Вот этот самый.
На зайца указал, лежащего на лавке с глазами открытыми мертвыми.
— Скачет он и скачет — прямо в болото. Думаю: — Леший бы тя забрал... В мокро хочет затянуть меня...
— Ты про Петьку-то, родимый!
— Обожди, не сразу... Заяц тут значение имеет. Ну вот... Скачет это он в болото — и скачет, а садиться на хвостишко боится. Другой сажень отбежит и сядет, отбежит и сядет... А этот — нет, — скачет и скачет. Это взяло меня. Никогда на бегу зайцев не стреляю. — Ах, ты, думаю.
А он уж в болоте, за кустиками.
Прицелился это я. Глаз прищурил, — чуть вижу косыгу.
Бахнул наугад — и бегу туда. Подбегаю — лежит мертвец и глазом не моргнет.
Никогда еще у меня такого случая не было.
На плечи его — и пошел.
Иду.
Глядь, под кустом у пенька мешок лежит. В луже он — и шевелится.
— Фу, ты нечиста сила, думаю... И кто мог теленка забросить?.. Не чумной ли какой он? Любопытно. Вытащил из лужи. Развязал. Кто ты думаешь?
— Петенька, поди! — вскрикнула старуха.
— Он самый...
Еще стаканчик налил. Крякнул.
— Петька ваш...
— Где он?.. Почему не идет домой... Обманул, может, ты?
— Вот еще!..
— Ну, ты прости родимый... Побегу я... Допивай да уходи.
Ты не торопись, бабка. Успеешь повидаться-то!
Где там? Разве удержишь радость, когда она в тебя вливается? Когда купаться в радости можно, — не будешь же ты только пятки мочить? Нельзя ждать, — нырять надо прямо головой в радость, будто в холодную воду от жары.
К усадьбе побежала старуха.
Сарафаном замелькала по огородам.
— Петька, где ты был? — закричала она, увидя Петьку в усадьбе на дворе.
Обняла его.
— Где ты был?.. Сказали, что пришел ты. Домой-то почему не шел сразу? Смучились мы, тебя искамши, Петенька!..
— Пусти, бабань! — отбивался он от рук старухиных, цепких. Пусти... Спина у меня болит, а ты лапаешь... Зашиблена она у меня... Доска с крыши упала на спину.
Пустила старуха.
Глаза радостно горят — и печально вместе. На вид Петькин усталый смотрит.
— Ну, как, расскажи, где ты был?
— К тетке я ходил, — начал врать Петька.
И о Волчьем болоте рассказал и о волках, которые на березе его продержали.
— Что ты врешь-то? — перебила его старуха. — Сейчас человек был у меня, охотник из Пестериной деревни, — все он рассказал про тебя.
Повторила слова мужичонка-охотника.
За руку взял старуху Петька. По двору прошелся с ней:
— Верно, бабань!.. Так было... Ты молчи... Я нарошно вру... чтобы ребята не знали... После спектакля все им расскажу. Спаяны они будут крепко... А теперь нельзя им рассказывать, — еще струсят, пожалуй, — и спектакля не получится.
30
Воскресенье пришло. Солнечный день был с самого утра. Афиши по-праздничному висели — и на воротах, и на столбах. После обедни все заговорили о спектакле, в который пионеры зазывали. Девки наряжались в яркие платки и платья. Старухи надевали старомодные широчайшие сарафаны. А старики рядились в пиджаки черные, в картузы с лаковыми козырьками, в рубахи — в синие да в красные.
Вот он праздник-то!
Даже солнце в этот день гуляло в золотой рубашке с красным подолом.
Под вечер, наглядевшись за день, солнце уходило на покой, — свертывало золотую рубашку, клало ее под голову и ложилось спать в лощине за синими холмами.
Тогда на смену ему, нагулявшемуся солнцу, выходили парни и девки. Рядами, кучами ходили они посредине улицы и пели под серебряные голоса гармошек.
Песни победы улетали в поле, на озеро.
А в усадьбе у окон, у дверей толпились ребятишки. Раньше всех они пришли сюда. Каждому хочется „на спектаклю“, но не у каждого есть по 10 копеек.
— Петька, — просят они, заглядывая в окна, — пусти нас! Мы скамейки притащим.
Не надо скамеек, хватит... Достаточно натащили их.
— Пусти-и! — осаждают со всех сторон ребята.
— Петька-а!..
— Погоди ужо... Я тебе ничего не дам.
А Санька комсомолец — главный контролер в дверях (он же и пьесу достал пионерам из передвижной библиотеки, из волости).
— Нельзя без билетов, нельзя! — кричит он, стоя в дверях.
Ребят за уши хватает, за шиворот, которые стараются прошмыгнуть мимо него.
— Нельзя без билетов, нельзя... Без билетов только пионеры проходят.
— Пусти меня... Я пиванер, — пропищал мальчишка маленький.
— Санька, — спросил у пионера, стоящего в дверях: — пионер он?
— Нет... врет он...
А мальчишка фыркнул.
— Запиши меня в пиванеры.
— Поздно... Вот, когда разделаемся со спектаклем, тогда приходите, — запишем.
— А на спектаклю-то как?
— Запишитесь, так в другой раз попадете.
И снова закричал:
— Уходите!
— Не лезьте!
— Пропускайте!
— Видите, люди с билетами идут!
Парни, девки приходили, старики, старухи — весь Черным Лом. Даже из других деревень приходили, которые поближе. Билетики предъявляли.
— На спектаклю к вам пришли...
— Пиванеров поглядеть.
А за кулисами, за мешочными, гримируются ребята. Толпятся в маленькой комнате, — у того усы черные сажей наведены, — у того борода белая из кудели.
— О!..
Рожи кривят перед зеркалами.
Щеки красят бумагой красной, из которой девки цветы делают. Учительница Анна Семеновна костюмы прилаживает им. Кому брюхо из подушки сделает, а которому парнишке платье свое оденет.
— Гы-ы.
Прыскают ребята.
— Да я, Анна Семеновна, упаду... запутаюсь в юбке-то!
— Не упадешь... Зато барышней хоть раз в жизни побываешь.
— Гы-ы.
— А у меня ус оторвался.
— А ты не дергай их... Больно храбришься... Мал еще усы-то крутить.
— Скорея, скорея, — слышится из публики со скамеек, — начинайте!
Шум.
Крики.
Свист.
Ногами топают, будто бы табун лошадей запущено в помещение.
— Пора, Анна Семеновна! — кричит Петька вбегая. — Вот книга, — суфлируйте и погромче... Ежели ребята запутаются, так подскажите, что делать... Как я скажу речь, так и начинайте.
— А вы, ребята, не гадь... Чтобы дым колесом от спектакля шел! И убегает.
— Мы...
— Мы...
— У... — кричат ребята вдогонку.
А он на ходу кричит:
— Звонки давайте скорее!
Выходит впереди занавеса. За галстук держится. На ногах мнется. Смолкают все.
Шипят.
— Тыш... Тише...
Лампочка тусклая под потолком светит. Дым около нее кружится. Махоркой пахнет, дегтем и лесами сосновыми и пихтовыми. Пихта по стенам висит. Из пихты буквы кричат:
„Пионер — всем детям пример“.
Сосны за окнами темнобурые золотятся.
— Тише, тише! Петька говорит, самый главный... Речь держит. Слушают все,
Говорит Петька. Передохнет. Откашлянется и дальше... Уши светят.
— Ай, подлец, ай!.. — вскрикивают старики. — Дельно говорит ведь!
— Вот, товарищи-граждане, почему нам надо просвещаться и быть организованными, — заканчивает Петька...
— Брао!
— Брао!
Руками захлопали, — ровно голубей напустили в залу.
Потом занавес в гору полез — после того, как три раза побрякали в ботало, которое на шею лошадей вешают.
На сцену Егорка вышел барчуком. Собачонку на веревке держит.
А собачонка паршивая, облезлая.
Да как залает вдруг:
— Хав хав!
Да как прыснут все!
Растерялся Егорка. Унимать ее стал.
— Ха.
— Здорово.
— Да ты ее пинком, — кричали из публики.
Ребята другие на сцену вышли, оборванные. Ноги грязные, — все равно что по углю ходили они. Крадутся к Егорке барчуку. Цыгарки в зубах длинные, толстые.
— Сенька-а, скажу маме-то, что ты куришь! — закричала худенькая девчонка из-за спин мужиков. — Скажу-у.
— Молчи! — со сцены заорал Сенька. — Не твое тут дело... Это я в игре...
А Петька высунулся сбоку из-за кулис. Ногами топает. Кулаками, грозит.
— Сенька, холера!.. Играй!.. Не переговаривайся!
Дальше спектакль, как по маслу, пошел, — все честь честью.
Радостными сидели и старик, и старуха. В первый ряд их усадил Петька на места на почетные.
— Сидите, смотрите, — сказал им.
И сидели они и смотрели. Охали, вздыхали.
—Ай да, Петька, ай да молодец!..
— Удивил на старости лет!...
— В отца это он, в отца! — шептала старуха. — Отец-то у него такой же длинный был... Натура отцовская передалась ему.
— Молодец, право, а!
Бороду чесал старик, улыбаясь.
А в перерывах около гармошки толпились. Пляс вокруг нее какой был, ух! И старики, и бабы, и молодежь плясали. Пыхтели, сопели, ухали. Как индюки топорщились. Дым от досок шел, от пола от господского.
— Ух-ты!
Никогда еще такого веселья не бывало тут.
Еще ни разу после революции мужики не плясали так.
И первое действие и второе, как по маслу, шли.
Только в последнем действии кто-то крикнул:
— Пожар!..
— Пожар, горим! подхватили все.
Да как схватятся.
Да как побегут.
— Ой-ей-ей!
— Пожар!
— Горим!
Кто в окна, кто в двери.
Кто по головам, кто как.
Петька на сцену выскочил, на середину:
— Тише... не волнуйтесь... спокойствие!..
Руку поднял кверху:
— Не делайте панику!..
Но где там!
Друг на дружку из окон валятся.
А сверху луна их засыпает желтыми камнями.
Луна.
А от амбара высокого тень.
В тени солома.
На беду, видно.
Этой ночью кошка тут красная с котятами забралась.
Гнездо тут свила.
Красная кошка с котятами...
Прыгают котята по соломе, на бревна бросаются, на амбар.
Гоняются друг за дружкой, дерутся. На сажень от земли прыгают. В солому зарываются.
— Здесь огонь, здеся, — закричали.
Весь народ со спектакля бежит сюда.
Топчут огонь.
Душат красных котят.
— Поджог это, поджог! — кричат.
Глядь, белеет что-то.
Что-то бежит, — белым шариком катится.
Вот он, поджигатель-то, вот он!..
За кулисами гримируются ребята. — Скорея, скорея, — слышится из публики со скамеек.
В. Кулагина
За ним побежала толпа стаей волков, за подшибленным лебедем:
— Барчук это, барчук!
— Вовка, барчук!
На плотине у мельницы догнали его.
Навалились.
Гакнули.
— Бей!..
Завозились.
Смешались в кучу. Будто болото зашевелилось, будто кочки запрыгали в болоте, а между кочек лебедь бьется, — засасывают его.
Подбежал Петька.
Ахнул.
Будто собаки затравленные дерутся, — шерсть клочьями летит.
А посередине стоит Мокей, — здоровый, плечистый. Рычит. Кулаками, как цепами, работает. За барчука заступается:
— Не подходи, убью!
Борода рыжая огнем пылает.
Глаза искры рассыпают.
Синяк под глазом большой, зеленый, как есть — лягушка присосалась под глаз.
Маленький перед Мокеем Петька, — с варежку всего.
— Он меня связывал... Он в баню садил... — догадался Петька, — я ему синяк прилепил.
Как на карусель, подбросило Петьку, закружило. Замелькало перед глазами все.
— Не подходи, — рычит Мокей.
— За барчука заступаешься!
Длинный, костлявый мужик за камень уцепился. Петьку оттолкнул.
Как хватит Мокея камнем.
И упал он... Грохнулся, как гнилой.
Долго еще возились.
Луна плыла над Черным Ломом, над усадьбой. Побледнела, глядя на драку.
Потом в воду у мельницы что-то бросили. Затрепыхалось что-то в воде. Словно лебедь по реке поплыл, а потом утонул. Золотые обручи образовались вокруг него. Прошумели об осоку, — и стало тихо, тихо.
31
Прощай, Петька, прощай!
— Пиши из Москвы-то!
— Журналы нам вышли, книжки не забудь!
Провожают ребята Петьку. Телега-рыдван у двора стоит, в которую лошаденка пегая впряжена. Старик на козлах сидит. Старуха рядом с Петькой села — проводить его до поскотины.
Оглянулся еще раз Петька.
Осень уж наступила. Сад за селом, помещика Лопухина, осыпается.
Как воробушки на дорогу, слетают с деревьев листья. Воздух будто квасом настоенный, желтый такой,
— Лимонад будто, — думает Петька.
Снопы на пашнях собрались в кучки, словно ребятишки сидят на поле, золотоголовые все. А усадьба помещика Лопухина — пустует, нет там снопов золотоголовых, нет ржи крупной, похожей на тараканьи яйца. Пусто там. Двери и окна настежь.
— Ленин там остался, думает Петька, — портрет Ленина...
На стене висит на том самом месте, где генерал усатый висел...
Во, как я Лопухина-то!..
И на ребят торжествующе поглядел.
— Ну, прощайте, ребята!
— Прощай, Петька!
— До свиданья!
Телега заскрипела, задрыгала неуклюже.
Ребята замахали шапками.
— Прощай!..
— А галстуки-то, Петька, поскорее вышли, красные!
— Ладно, вышлю!
За телегой пошли ребята кучей.
А Петька сидел рядом с бабушкой — и наказ Ваньке Цыганку делал:
— Ты, Ванька, не распускай ребят, крепи организацию! С учительницей, Анной Семеновной, связь держи! Я говорил с ней, — она помогать вам будет. А Санька комсомолец шефство взял над вами, идейное. Это значит — советам его подчиняться надо. Он в Исполкоме голос за вас иметь будет.
Цыганок шел за телегой. Держался за нее рукой и слушал Петькины слова. Впитывал их в себя, запоминал. Ребята прислушивались к словам, которые, минув Цыганка, летели к ним. Некоторые из них маршировали, грудь выпячивали, как их учил Петька:
Взвейтесь кострами,
Синие ночи,
Мы пионеры —
Дети рабочих...
вспомнили они заученную песню.
А когда проезжали мимо церкви, то за оградой ее увидели похороны. Между пожелтевших берез, у ямы вырытой, на глине — похожей на крепкий загар, стоял гроб, большой сосновый гроб. Листья сверху падали на него и скользили в яму. Толпа баб и несколько мужиков толкались у гроба. Крестились, пели:
„Вечная память...“
Священник стоял у головы покойника в золоченой ризе и кадил, и кадил.
Ладаном запахло на улице.
Шапку снял старик. Перекрестилась старуха костлявыми пальцами, сухими как хворост. А ребята пошли тише, отставать начали.
И когда прощались за селом, бабушка вылезла из рыдвана, расцеловала его и сунула в его сумку еще теплые, испеченные в золе яички.
— На дорогу тебе, Петя, с шанежками съешь. Соль-то я тебе в краешек платка завязала.
Потом занесла было руку, чтобы перекрестить его, но убрала ее, вспомнив, что не любит этого Петька, не признает бога.
— Ну, поезжайте, — только сказала она.
И вернулась с ребятами, которые то и дело оборачивались и махали шапками и долгими рукавами уезжающему Петьке, домой.
Всю дорогу до самой станции Петька думал о человеке, которого убили. И только в вагоне, когда залез на верхнюю полку, он забыл о нем.
— В Москву, к ребятам, к учебе!
Радостно забилось сердце.
А уже бежали вдоль вагонного окна железнодорожные мастерские, высокие постройки Москвы...
Скачать издание в формате pdf в высоком разрешении (яндексдиск, 871 МБ)
Скачать издание в формате pdf в низком разрешении (яндексдиск, 339 МБ)
Издание оцифровано Принстонским университетом.
4 августа 2017, 22:22
0 комментариев
|
Партнёры
|







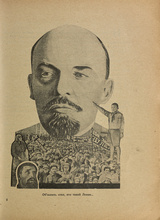









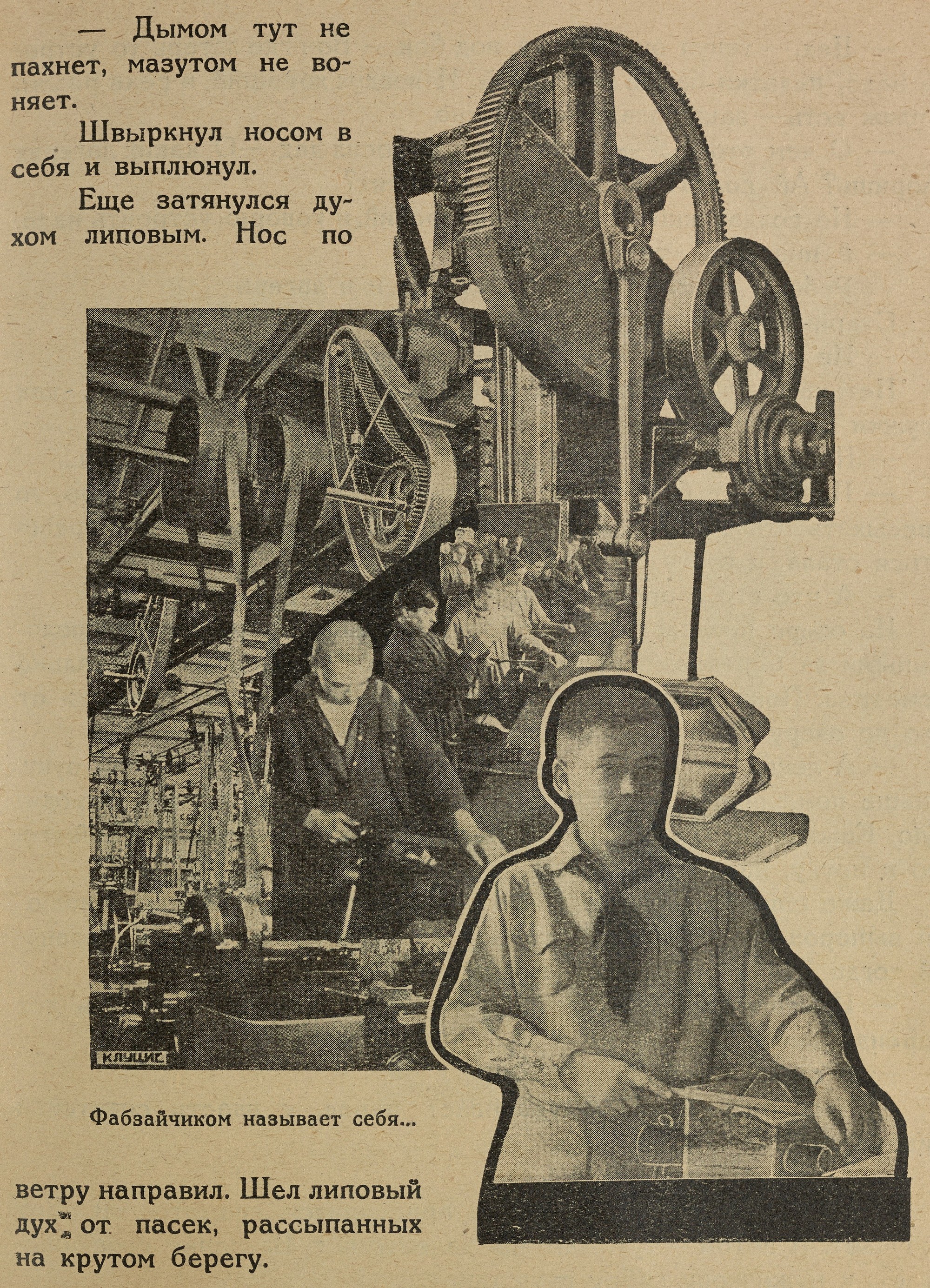
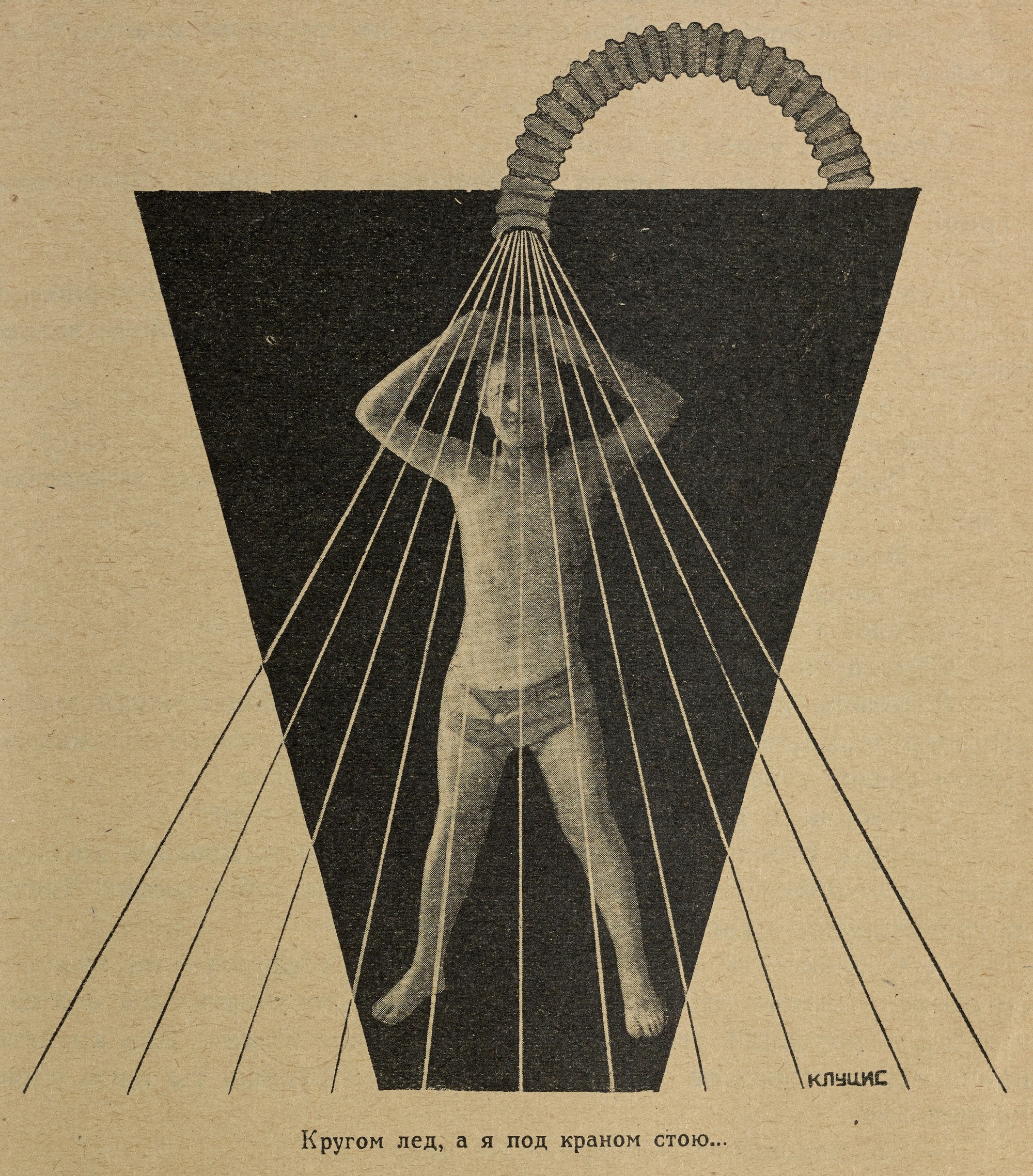

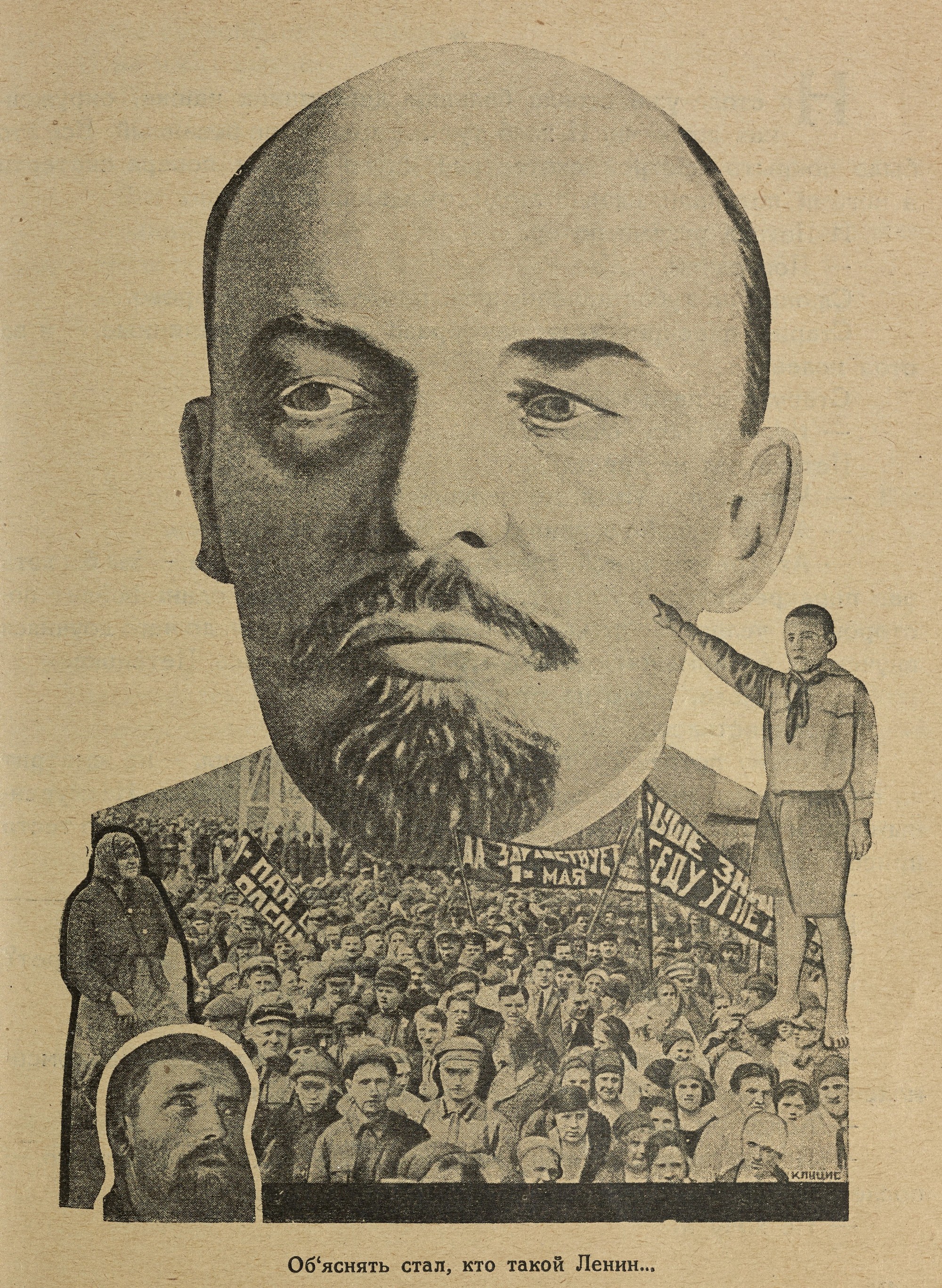

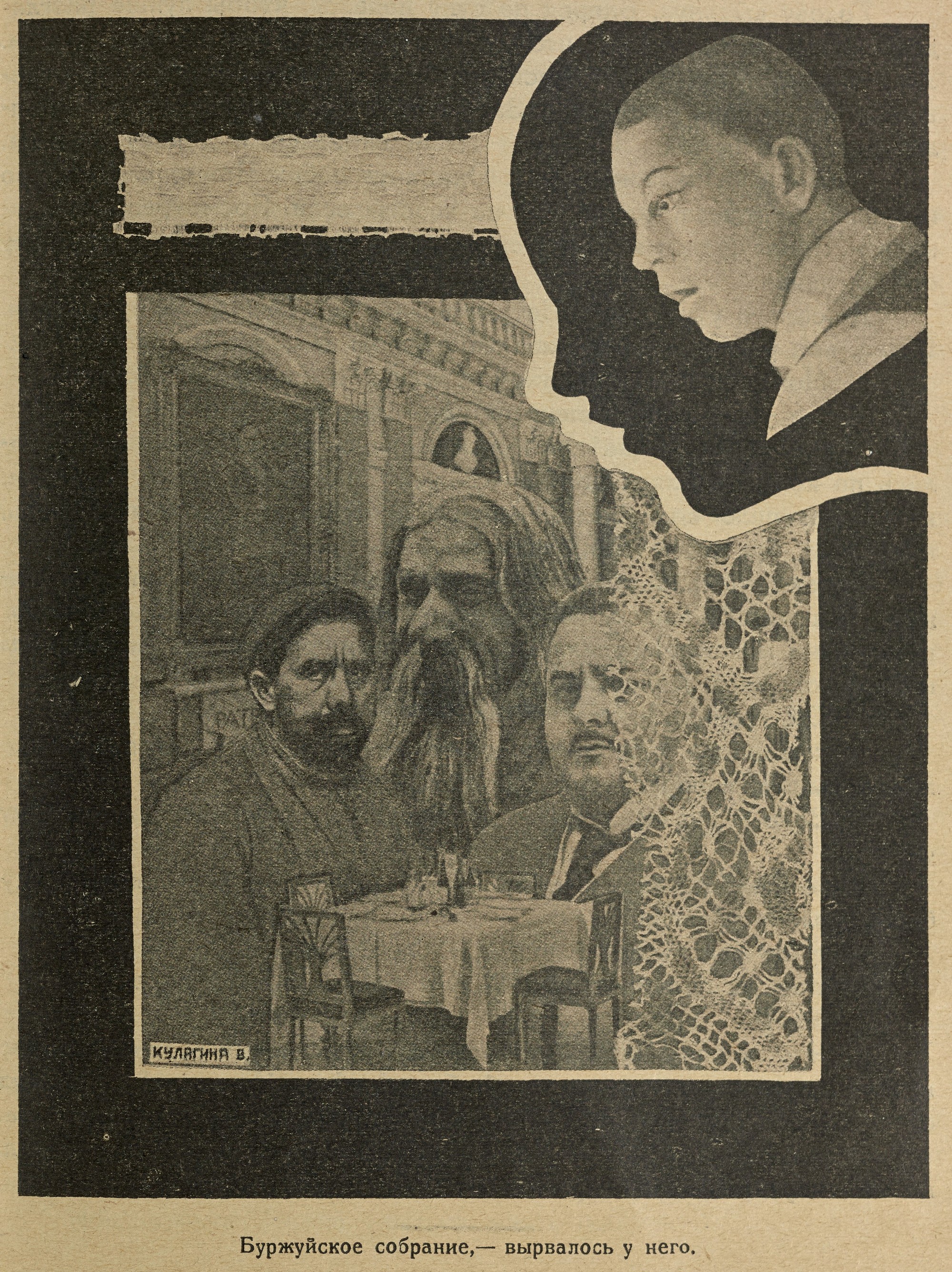

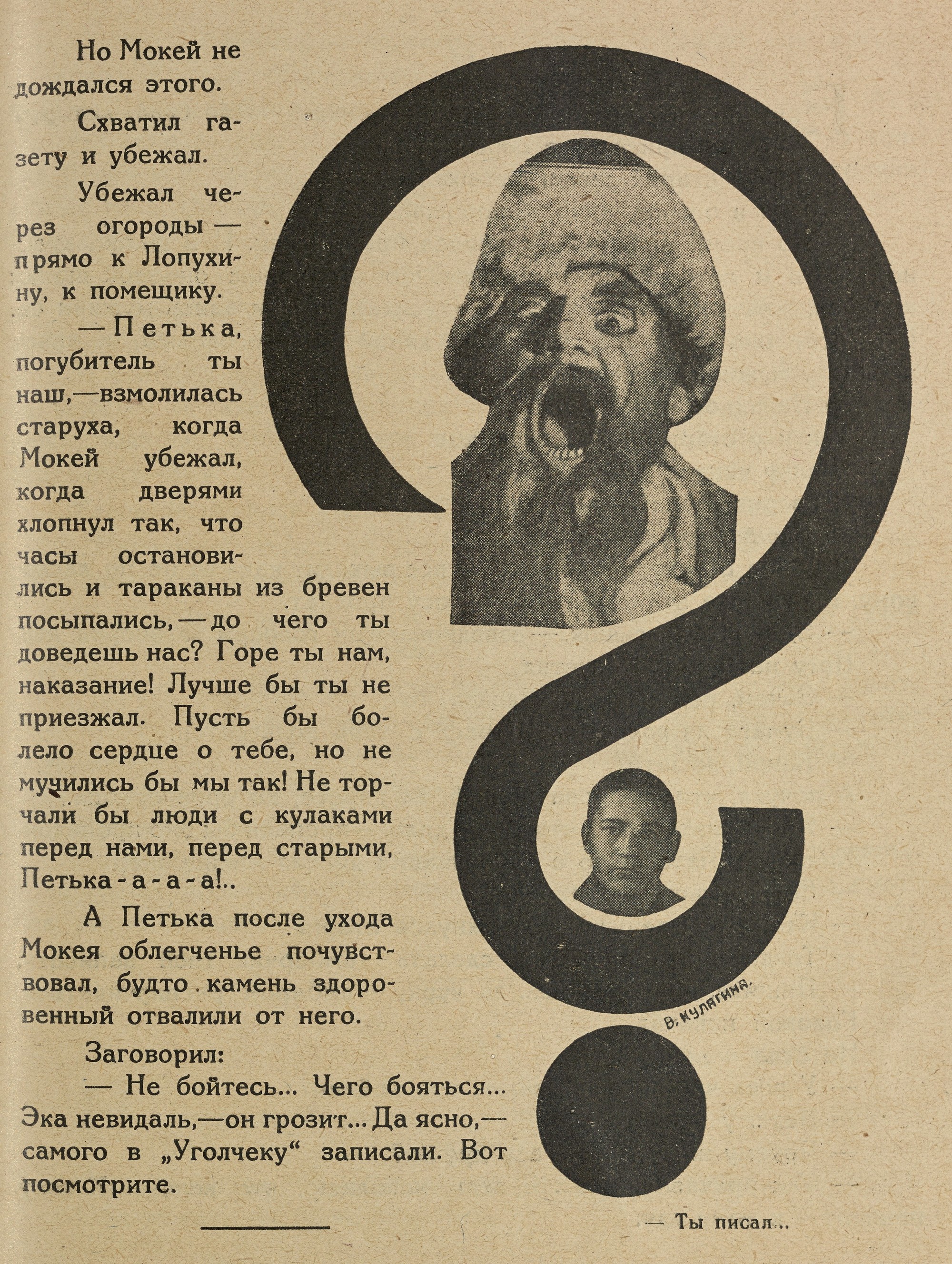
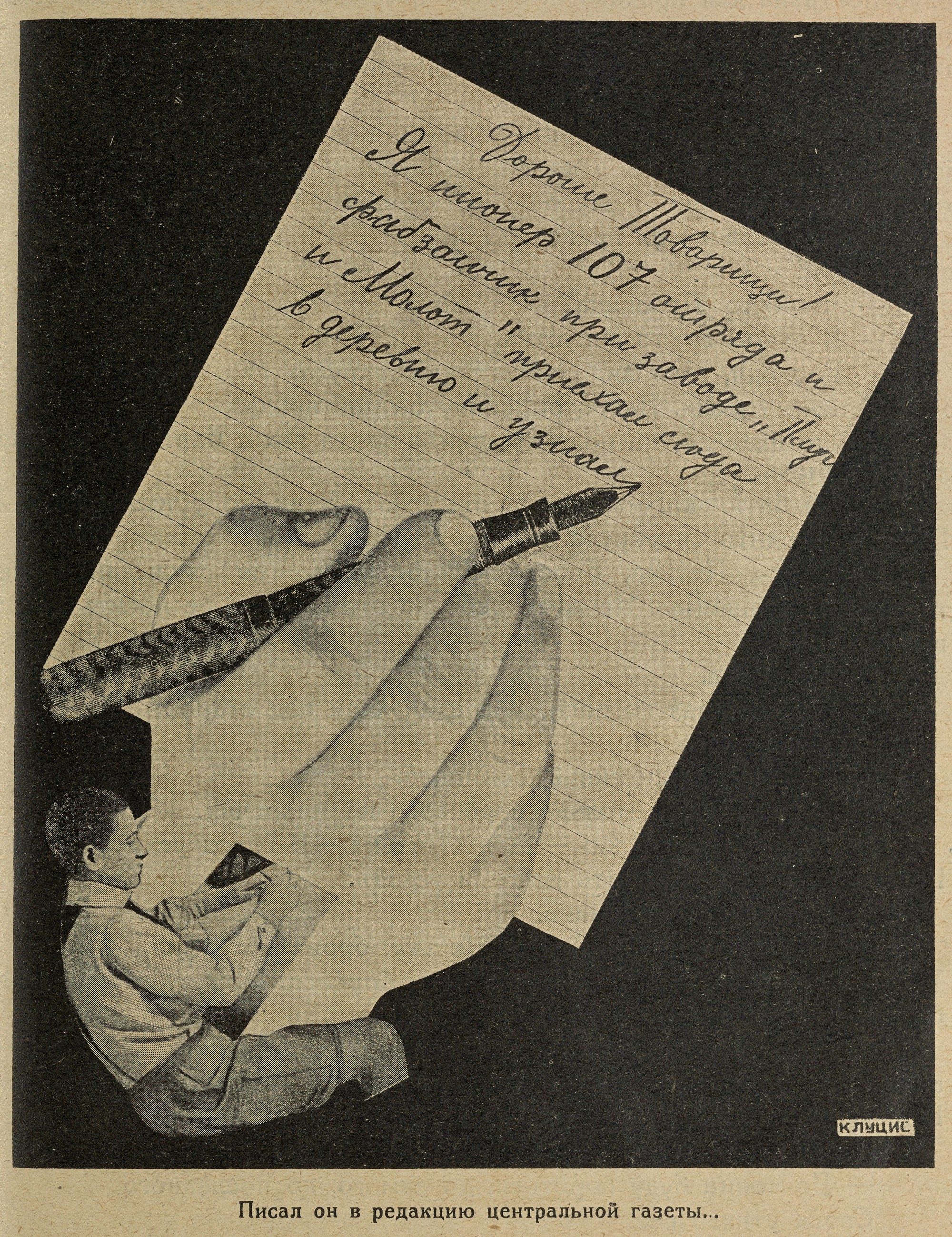








Комментарии
Добавить комментарий