|
|
Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения : Сборник статей. — Москва, 2012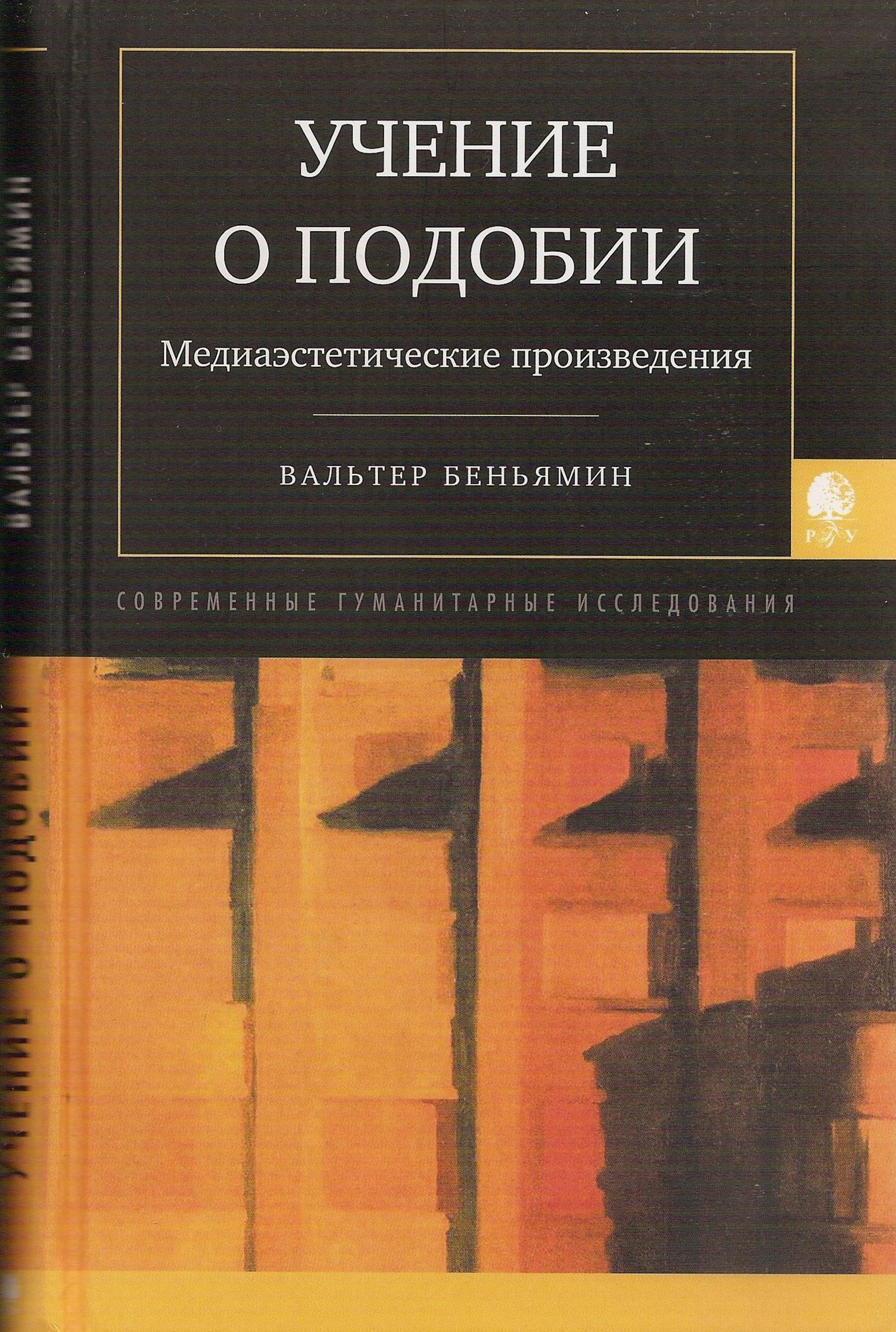 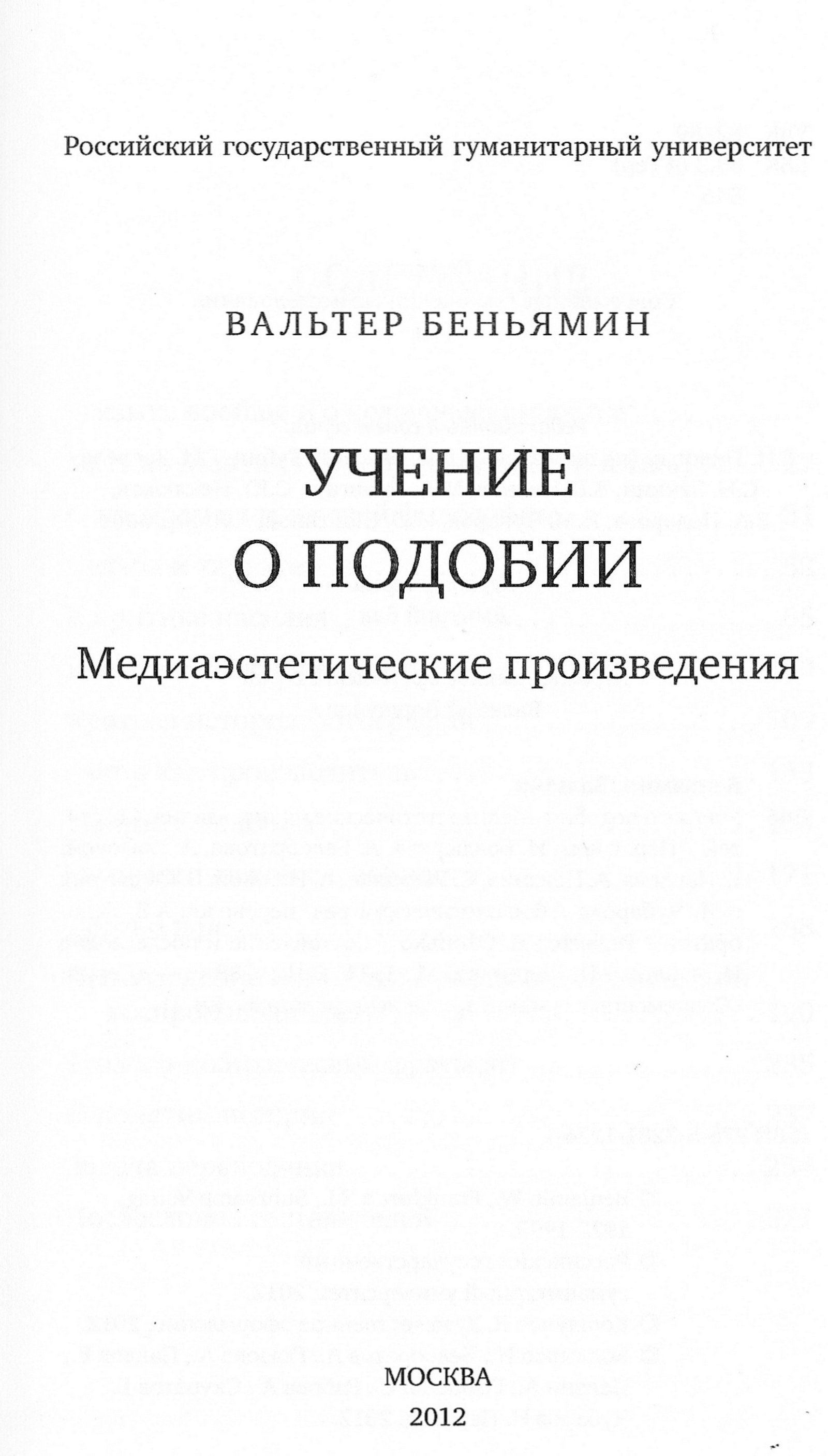 Учение о подобии. Медиаэстетические произведения : Сборник статей / Вальтер Беньямин ; Перевод с немецкого И. Болдырева, А. Белобратова, А. Глазовой, Е. Павлова, А. Пензина, С. Ромашко, А. Рябовой, Б. Скуратова и И. Чубарова ; Филологический ред. переводов А. В. Белобратов ; Редактор Я. Охонько ; Составление и послесловие И. Чубаров, И. Болдырев. — Москва : РГГУ, 2012. — 288 с. — (Современные гуманитарные исследования, Кн. I). — ISBN 978-5-7281-1276-1[Аннотация]
В сборник статей Вальтера Беньямина (1892—1940) замечательного мыслителя, эссеиста и критика начала 20 в. вошли большей частью не переводившиеся на русский тексты о теории языка и медиа, учении о подобии и философии истории. Эти работы объединены проблематикой изменяющихся в истории миметических способностей человека в генеалогическом исследовании которых Беньямин надеялся обнаружить упущенные в истории возможности справедливого, не опирающегося на насилие, общественного взаимодействия и свободных культурных практик. Книга рассчитана на всех интересующихся историей критической мысли XX в. и современными теориями медиа, на которые Беньямин оказал определяющее влияние.
ПУТЕМ БУЦЕФАЛАПослесловие составителей
Вальтер Беньямин (1892—1940) вдохновлялся одновременно мессианско-марксистскими и архео-эсхатологическими мотивами своего столь богатого на достижения и катастрофы времени, оставаясь, правда, на равном от них удалении. Он искал не сводимые к механицизму, диалектике или мистике способы связи политики и метафизики, так чтобы не жертвовать и не подменять одно другим. В учении о подобии и уподоблении смыкаются различные стороны его мысли. Следуя на уровне выражения сложной эллиптической логике, яркой образности и загадочной метафорике, Беньямин обращался на уровне опыта к частично утраченной бессознательной миметической способности, сохранившейся в языке в режиме нечувственного уподобления. В обращении к соответствующим слоям опыта современного ему искусства, философской мысли и политической практики он видел возможность исправления искажений, которым подверглись в истории человеческие отношения, да и сам образ человека.
В отборе текстов для этого сборника мы исходили из существенной близости его работ по теории языка раннего периода («О языке вообще и языке человека», «Письмо М. Буберу», «Задача переводчика»), знаменитых медиаэстетических исследований условно среднего периода («Краткая история фотографии», «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости») с более поздними текстами о метаморфозах миметической способности в истории («Учение о подобии», «О миметической способности») и мессианском понимания самой истории («О понятии истории», «Теолого-политический фрагмент»).
Все эти тексты связаны и стилистически, и содержательно, находясь друг с другом в постоянной перекличке — одни и те же мотивы, появляющиеся в разных фрагментах, видоизмененные в зависимости от тематики, проясняют друг друга. Продумывание отмеченной выше причудливой связи метаполитических левых убеждений и квазитеологических иудео-христианских мотивов привело Беньямина к парадоксальному учению о моментальном спасении угнетенных в истории, не содержащая, однако, предположений о ее конечной цели и навязываемых мифологическими дискурсами идей судьбы и вины. Мессианский горизонт мысли Беньямина не предполагал веры в персонифицированное «божество», «высший замысел» и божественное происхождение человека. Он скорее ориентировался на открытие возможностей избавления человечества от истязаний и страданий, практикуемых юридическими и полицейскими институтами, культурными и религиозными аппаратами государства, и оправдываемых соображениями контроля за «злой» и «эгоистичной» природой человека для его же «безопасности» («Капитализм как религия», «Судьба и характер»).
Именно в языке, в перешедших в него способностях к нечувственному уподоблению и отвергаемом в нем современностью исконном праве на ложь и абсурд, он усматривал ресурс ненасильственного урегулирования социальных кризисов, установления справедливых способов общественного взаимодействия и свободных культурных практик («К критике насилия», «Автор как производитель»).
Проблемная связь двух упомянутых полюсов мысли Беньямина, опосредованная его теориями языка и перевода, критикой насилия и насилием критики, учением о мимесисе и медиатеорией, может послужить отправной точкой для понимания его творчества в целом.
Потребность в такой книге на русском давно назрела, ибо традиция мысли, учрежденная Беньямином, до сих пор наталкивается в нашей стране на глухое неведение — тем более досадное в свете впечатляющих достижений российского авангарда, редких, но исключительных по своей значимости поисков отечественной философии и бесконечных, наперебой, цитаций Беньямина по поводу и без — со стыдливой оглядкой на английские переводы.
* * *
Мысли Беньямина если и похожи на что-то бывшее и известное, при внимательном рассмотрении не вписываются в рамки коллективного институционального разума. Так его часто называют пионером медиатеории XX в. Это наверное справедливо — задолго до Инниса и Маклюэна, немецкий мыслитель обратил внимание на самореферентность средств передачи, хранения и переработки информации, причем в их исторической изменчивости. Однако в отличие от канадских коллег этот берлинский аутсайдер писал о медиальности языка как непосредственности выражаемых в нем духовных содержаний.
Т.е. Беньямин не ограничивался пониманием медиа как средств передачи информации, влияющей на значение самой этой информации. Свою задачу как медиатеоретика он видел не в том, чтобы бесконечно «брачевать» различные виды медий с изменяющимися способами коммуникации, во что на сегодня по преимуществу выродилась медианаука (Medienwissenschaft) и коммуникативная теория (Kommunikationstheorie), а в поиске утраченных в современности способов закрепления знания в опыте, переводящем его в навык как полноценную художественную или трудовую практику.
Открытие соответствующих возможностей в настоящем Беньямин описывал с помощью критического концепта «среда рефлексии» (Reflexionsmedium)1, уникального для каждого исследуемого им материала — от немецкой барочной драмы до русской игрушки. Речь шла о понимании искусства как перевода немого языка вещей на чистый («божественный») язык в пространстве художественного произведения, минуя связку «средство сообщения — слово, объект сообщения — вещь, адресат сообщения— человек».2 Ибо слово, по Б., не находится с предметом в произвольной связи означаемое-означающее, и не просто указывает или сообщает о чем-то себе внешнем, а непосредственно выражает его «духовную сущность» в языковой.3
____________
1 Ср. его первую диссертацию «Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik», 1919; I, 7–122).
2 Cp.: «Дело философа — путем изображения вернуть примат символического характеру слова, в котором идея обретает согласие сама с собой, являющееся противоположностью всякого направленного вовне сообщения». Беняьмин В. Происхождение немецкой барочной драмы. Пер. с нем. С. А. Ромашко М., 2002. С. 16.
3 Cp.: Kramer, S. Walter Benjamin zur Einführung. Hamburg, 2003; Schweppenhäuser, H. Ein Physiognom der Dinge, Lüneburg, 1992.
Уже в 1916 г. Беньямин много размышляет о сущности языка, и от этих размышлений осталось два важнейших текста, которые впервые публикуются в русском переводе. Первый из них — это письмо, адресованное выдающемуся и уже тогда хорошо известному немецко-еврейскому философу Мартину Буберу у предложившему Беньямину сотрудничать в его журнале «Иудей». Сотрудничество это было для Беньямина неприемлемо прежде всего из политических соображений (Бубер был одним из многих немецких интеллектуалов, кто с энтузиазмом воспринял Первую мировую войну). Это письмо, написанное в разгар войны, было для него настолько важно, что он даже хотел опубликовать его как открытое, но потом передумал. Суть дела была не только в политических разногласиях. Беньямин в этом письме показывает, как он понимает суть языка и его роль в политике.
Главное в теории языка Беньямина — отказ мыслить язык как средство коммуникации. Язык — это медиум — не столько в обычном, сколько в магическом смысле, отсюда идея магии языка. Язык непосредствен в том, что не сводится к выражению извне данного знания, мотивов, мыслей, чувств, он выражает сам себя. Беньямин против инструментализации языка, и в области политической видит ужасающие последствия такой инструментализации — язык становится внешним, техническим средством «нанизывания» слов друг на друга, слугой мотивов, позабывшим о своем предназначении. Инструментализации языка сопутствует его бесконечное расширение, говорливость, называемая Беньямином вслед за Кьеркегором «болтовней». Беньямин противопоставляет ей внутреннее онемение, способность добраться до того, с чем язык не справляется, устранение невыразимого. Используя язык как инструмент политической риторики, мы никак не проблематизируем невыразимое, оно смешивается с тем, о чем можно сказать, и поэтому между словом и делом не остается необходимого зазора, в котором может пробежать магическая искра непосредственности. Новая «непосредственность» должна отвоевываться, это плод невероятных усилий по очищению языка от внешних наслоений и одновременно проникновение через язык в то пространство, где язык спотыкается, «оговаривается», отказывает, дает сбой. Путь в это пространство немоты у Беньямина только намечен. Он пишет, что для него самого такое проникновение остается пока непостижимым. Дальнейшие размышления о проблеме языка Беньямин попытался систематизировать в статье «О языке вообще и о языке человека», законченной в ноябре-декабре 1916 г. Текст не предназначался для печати, а был для автора лишь средством в неокончательном виде уяснить для себя отношение к философии языка. Инструментальной концепции языка Б. противопоставляет идею его магии и новые понятия — имени и откровения, фиксирующие главное в языке — выражение (сообщение) духовной сущности, которая и есть сам язык, его содержательная форма. Постичь магическое существо языка — в этом бесконечная задача философии.
Эта же задача, но уже в мессианском контексте, возникает и в «Теолого-политическом фрагменте», который Адорно датировал 1937—1938 гг., а Шолем и Тидеманн —1921 г. (вторая датировка считается общепринятой). Жест, который предпринимает Беньямин во «Фрагменте», родствен тому, о чем говорится в письме Буберу: в наш секулярный век остается лишь уступить место мессии, следуя ритму разложения и упадка. Беньямин называет это нигилизмом, но подобно тому, как из немоты, внутри немоты, может родиться магическая мощь имени, и в истории движение в сторону от вечности может стать путем к мессианскому царству.
Тема «мистического понимания истории» как противонаправленного, но укрепляющего одно другое движения двух начал — инстинктивного стремления человечества к счастью и неизбежности мессианского суда, заслуживает более пространного обсуждения. Беньямин представлял его в образе двух противоположно направленных стрел. В этом образе у Беньямина угадываются отзвуки самых различных традиций — от кантовской аналитики возвышенного до гегелевской «хитрости разума». В работе о Кафке Беньямин также цитирует Плутарха: «Чрезвычайно древним является мнение... повсеместно преподаваемое во время мистерий и жертвоприношений, как у варваров, так и у эллинов, согласно которому вселенная не предоставлена воле случая, без ума, разума и управления, но в то же время и не управляется... единым разумом... а что существует два противоборствующих начала и две сталкивающиеся силы, одна из которых придерживается правой руки и ведет напрямую, в то время как вторая поворачивает вспять и отклоняет в сторону; посему жизнь столь разнородна... и подвержена различным перипетиям»4.
____________
4 См.: Беньямин В. Франц Кафка. Пер. с нем. С. А. Ромашко. М., 2000. С. 137. Cp.: Wunder В. Konstruktion und Rezeption der Theologie Walter Benjamins. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1997. S. 107.
* * *
Беньямин указывает здесь на альтернативный философской классике режим сочетания теоретического и практического, который не смешивая соответствующие сферы опыта, не оставлял бы их и совершенно автономными, взаимно непереходимыми. В образном строе произведений великих художников, — Гете, Достоевского, Бодлера, Верлена, Пруста, Кафки и др., — он усматривает способы преодоления дилеммы между священной тайной жизни и профанным страданием живого. Подвергая принципиальной критике привычку консервативных мыслителей объяснять непостижимостью первой неодолимость второго, Беньямин объявляет лживыми и низкими все попытки оправдывать реальные пытки и убийства ссылками на издержки социального развития и принципиальную конечность индивидуального бытия.
Но в его собственной философии истории нет места ни оптимистическим надеждам на гуманитарный прогресс, ни обещаниям райской потусторонности. При этом Беньямин никогда не отказывался от утверждения своеобразного плана трансценденции, оставляя его... пустым. Поэтому его Angelus Novus, подталкиваемый в спину несущимся из рая шквалистым ветром к необеспеченному будущему, пребывает в бездействии, меланхолично созерцая разрушительные последствия прогресса5. Отчасти следуя здесь мотивам иудейской мистики, Беньямин понимает образ Клее как предупреждение от заклинаний грядущего и мессианскую обращенность к пребывающему в забвении прошедшему.
____________
5 См.: С. 243. Наст. изд.
Избавление человечества от страданий и глупости дело не ангелов, но нас самих. Каждое новое поколение обладает, по словам Б., «слабой мессианской силой», на которую у поколений ушедших есть свои виды. Ведь именно они отягощают нашу память, именно их несвобода выступает главной причиной наших несчастий. В виду объяснения этой внешней на первой взгляд обязанности или даже долга перед прошлым Беньямин обращает внимание на отсутствие у современников зависти к успехам и счастью будущих поколений, и на странное, обусловленное природой самого времени сообщничество в этом плане с умершими.6
____________
6 Cp.: С. 237—238. Наст. изд.
Притязания последних на спасение — это наш собственный опыт исторической памяти, из проникающих в сознание элементов которого мы и конструируем историю. Ибо память — это не хранилище нейтральных сведений, а беспокойный подвижный медиум, связывающий нас с коллективным бессознательным прошедших эпох.
Представление об истории как совокупности каузально обусловленных фактов, для понимания которых якобы достаточно чувственно или мысленно переместиться в прошлое, Беньямин квалифицирует как иллюзию. Без учета процессов и инструментов, доставляющих сведения о прошлом в настоящее, мы можем реконструировать только господскую историю, «вживаясь» в победителей. Идея Беньямина не только в том, чтобы обратить внимание и на проигравших, а в том, чтобы критически проанализировать весь актуальный опыт современности, выявляя в нем связи с неразрешенными в прошлом конфликтами и забытыми проблемами. Ведь именно они будоражат память, позволяя вообще говорить об истории в отличие от холостого хода традиции. Неразрешенное в истории, вытесненное в коллективное бессознательное рано или поздно дает о себе знать, не смотря на любые попытки сохранять status quo существующих общественных отношений. Сама история приводится в движение этим настоятельным, но непроизвольным усилием памяти, — молниеносно, словно пробуждаясь от тяжелого сна, — и тем самым избавиться от груза насилия и угнетения, искажающего образ человека.
В книге о Кафке Беньямин анализирует образы, сводящие в коротком замыкании понятия угнетения, ноши и забвения. Но ведут ли они к пробуждению?
Вопрос в том, с какими именно элементами пребывающего в забвении опыта мы хотим установить спасительную корреспонденцию? Для Беньямина в отличие от итальянских футуристов и французских сюрреалистов, немецких фашистов и русских сталинистов, это было не безразлично. Но анализ подобного исторического опыта может привести к неожиданным последствиям.
В XIV тезисе «О понятии истории» Беньямин пишет о диалектическом, революционном прыжке в прошлое, только и способном кое-что подправить в истории, не оспаривая неизбежности ее заката7. «Чесать историю против шерсти» — еще один образ, обязывающий остановиться и найти силы для противодвижения, навстречу несущейся из рая буре прогрессирующего забвения. Для противостояния ей нужно поймать другой, менее ощутимый ветер, веющий из прамира, из «низших пределов смерти». Для странного скакуна, лишившегося ездока, но обретшего память, он может стать попутным.8
____________
7 С. 246. Наст. изд.
8 Ср.: Беньямин В. Франц Кафка... Цит. изд. С.93.
«Поворот вспять» и «отклонение» о которых шла речь в вышеприведенной цитате из Плутарха, истолковывается Беньямином как «направление пытливой мысли, превращающей наличное бытие в писание», того «пуанта» к которому стремились притчи Кафки. Но если даже Кафка претерпел на этом пути неудачу, то что можно сказать о попытке самого Б. «претворить [его] искусство в учение»?9
____________
9 Ср.: Беньямин В. Франц Кафка... С. 78, 273.
Крах такой попытки сродни жертвоприношению, ибо верные идеи не обязательно приводят к победе. В исторической реализации они склонны отрицать самих себя. Поэтому Беньямин чаще воздерживается от их утверждения. Скорее он стремился лишить некоторые «истины» их непреложного статуса вечности. В виду подобной «сократической» задачи Беньямин оценивал в некоторых своих текстах претензии на статус идеи таких понятий как миф, трагедия, драма, закон, судьба, характер, насилие, счастье, справедливость и т.д. Это объясняет и смысл его обращения к хоронящемуся за ними экстремальному опыту крайностей.
* * *
Было бы довольно дерзко рассчитывать на разрешение за Беньямина его собственных противоречий, в которых он подозрительно охотно признавался своим друзьям (Шолем). Но задача, которую он перед собой ставил, позволяет нам рассчитывать сегодня если не на откровение, то на «отчаяние» и «абсурдную надежду».10
____________
10 Ср. завершение статьи «“Избирательное сродство” Гёте»: «Надежда дарована нам лишь ради отчаявшихся». Benjamin, W. Gesammelte Schriften. Bd. I . S. 201; см. также: Беньямин В. Франц Кафка... С. 274.
Неразрешимая задача, о которой далее пойдет речь, состоит в попытке сделать на уровне языка что-то противоречащее, противостоящее его коммуникативной функции, не отказываясь от нее даже в выборе жанра — научной статьи. Для этого видимо придется отказаться от «истины» в пользу науки, подобно тому, как Кафка отказался от нее в пользу талмудической традиции.11
____________
11 Ср.: Беньямин В. Франц Кафка... С. 177.
Но что могло бы называться здесь наукой? Мы снова возвращаемся к историческому материализму, который, по остроумному замечанию Сл. Жижека, должен сегодня поменяться местами с карликом теологии в знаменитом шахматном аппарате из I тезиса «О понятии истории»12.
____________
12 Ср.: Жижек С. Кукла и карлик. М., 2009. С. 5—6 и далее.
Речь, соответственно, пойдет о насилии. Вопрос: удалось ли Беньямину (не говоря уже о Жижеке) решить проблему насилия, довести ее, так сказать, до уровня идеи и тем самым «спасти»? Не придется ли тогда признать этим решением «окончательное решение», которое вольно было Жижеку облекать в безвкусные языковые парадоксы13, а Деррида чуть ли не уличать самого Беньямина в причастности к нему.14 Чего стоит сегодня различение божественного и мифического насилия, которое Беньямин предложил в 1921 г. в статье «Zur Kritik der Gewalt»? Идет ли речь о принятии божественной необходимости, за которую никто не отвечает, но которая способна остановить круговорот насилия в природе и истории? Бог одновременно договорился с роком, справедливостью, законом и полицией? Едва ли.
____________
13 Ср.: Жижек С. О насилии. М., 2008. С. 152—153, 166.
14 Ср.: Derrida J., Force de loi, Éditions Galilée, 1994. Ср. также: Bischof, S. Gerechtigkeit — Verantwortung — Gastfreundschaft. Ethik-Ansätze nach Jacques Derrida. Freiburg-Wien, 2004, S. 177; Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida-Benjamin. Hg. von Anselm Havekamp. Fr. a. M., 1994; Lindner, Burkhardt, Derrida. Benjamin. Holocaust. Zur politischen Problematik der «Kritik der Gewalt» In: Zeitschrift für kritische Theorie, H. 3 (1997), S. 65–100.
Беньямину удалось только поставить проблему насилия критически, в трансцендентальном плане, на уровне условий его возможности (и невозможности): «...является ли нравственным насилие как таковое, насилие как принцип, если его применяют как средство для достижения справедливых целей. Этот вопрос все же требует для своего решения еще одного, более точного критерия — различения в сфере самих средств, без оглядки на цели, которым эти средства служат... если критерий, устанавливаемый позитивным правом для правомерности насилия, можно анализировать только в отношении его смысла, то сферу его применения следует подвергнуть критике с точки зрения его ценности. И тогда такого рода критика должна занять прочную позицию не только вне философии позитивного права, но и вне естественного права»15.
____________
15 См.: С. 65—66, 68. Наст. изд.
Он рассматривает насилие одновременно в двух планах: его профанной, исторической действительности и мессианской возможности его преодоления, избегая тем самым ложного выбора между пацифизмом и апологетикой, его либеральными и консервативными объяснениями. Беньямин равно критикует понимание насилия в позитивном и естественном праве: «Ибо если позитивное право слепо в отношении безусловности целей, то естественное право — в отношении условности средств»16. Он прежде всего отвергает разделяемую ими обоими догму: «Справедливые цели могут быть достигнуты с помощью оправданных средств, а оправданные средства могут быть обращены к достижению справедливых целей»17, предлагая рассматривать область средств и целей независимо друг от друга. Это позволяет ему увидеть, что право запрещает насилие со стороны отдельных лиц не из-за нарушения ими законов, не ввиду угрозы собственно юридическим целям («...ибо тогда осудили бы не само насилие как таковое, а лишь насилие, направленное на достижение противоправных целей»18), а в целях сохранения самого права.
____________
16 Там же. С. 67.
17 Там же.
18 Там же. С. 70.
Здесь, как и в ситуации с войной, смертной казнью, действиями полиции и отношением права к всеобщей забастовке обнаруживаются не столько логические, сколько реальные противоречия правового положения. Они обусловлены насильственными истоками самого права, традиции которых оно активно культивирует. Насилие не проблематизируется, а легитимируется тогда, когда право, пресекая применение насилия частными лицами, монополизирует его на государственном уровне. Ибо ни исполнение закона, ни требование справедливости целями права не являются, выступая только маскировкой естественных целей субъектов этого права, точнее даже самого их бытия. Древнее, выраженное еще в мифах насилие богов и героев выживает, таким образом, и в современном мире. Но никакого благоговения перед мифологическими истоками права у Беньямина нет. Напротив, он доказывает, что именно связь современного права с мифическим насилием свидетельствует о чем-то подгнившем в праве, и приводящем его в конечном счете к саморазрушению.
Так, обращаясь к феномену полиции, Б. демонстрирует, как диалектика правоустанавливающего и правоподдерживающего насилия в правовом государстве дает сбои. В полиции различение установления и сохранения власти по факту устранено. Ибо она не только поддерживает и исполняет требования закона, но и постоянно вводит собственные инструкции, претендующие на статус законов, подрывая тем самым авторитет государства и свидетельствуя о вырождении его собственного насилия.
Цитируя еврейского философа Эриха Унгера, Беньямин подвергает нелицеприятной критике и институт парламентаризма, на словах провозглашающего борьбу с насилием и идущего на компромиссы с борющимися за власть группами общества, но, оставаясь в неведении о революционном насилии (которое привело к жизни сам этот институт) неизбежно деградирующего и открывающего путь голому варварству.
Кстати, когда Б. пишет, что современный ему немецкий парламент не принимает решений, созвучных насилию, которое в них представлено, не стоит торопиться относить его к сторонникам децизионизма и «чрезвычайных мер». Лучше вспомнить, какой институт Веймарской республики в итоге привел Гитлера к власти. Под решениями, созвучными учреждению парламентов, Беньямин, напротив, понимал утраченные в них идеалы ненасильственного урегулирования социальных конфликтов.
Субъективная возможность подобного урегулирования (выраженная в таких качествах, как вежливость, симпатия, миролюбие и доверие) опосредована, по словам Б., конфликтными отношениями людей с вещными благами, т.е. установившимися в обществе экономическими, политическими и культурными отношениями, которые регулируются законодательно. Это означает, что осуществление в межчеловеческих отношениях «чистых средств» на уровне «решений», без предварительного изменения отношений с вещами, невозможно. И хотя Беньямин воздерживается в этой статье от рассмотрения «огромнейшего значения» вопроса о силе закона и тех «высших закономерностей», которые могли бы определять подобное осуществление в перспективе классовых войн, кое-что на тему политики «чистых средств» и возможности «революционного насилия» ему сказать удается.
В качестве техники, с помощью которой можно достигать цивилизованного соглашения без применения насилия, Беньямин предлагает рассмотреть беседу. Он указывает на такое неожиданное свидетельство ненасильственности языковой сферы, как допустимость и ненаказуемость в ней лжи. Проникновение в эту сферу права, выражающееся в наказании за обман и лжесвидетельство, связано, по его тонкому наблюдению, с теми же обстоятельствами, что привели его к разрешению рабочих забастовок, противоречащих интересам государства. Наказание лжи было обусловлено страхом права перед насильственными действиями, которые может вызвать ложь у обманутых, а не моральным осуждением ее самой. А так как страх перед проявлениями предполагаемого насилия противоречит собственной насильственной природе права, то оно, отрицая самое себя, неизбежно приходит к упадку. В запрете на обман право, по наблюдению Б., умаляет роль чистых, ненасильственных средств, так же, как разрешая забастовку, опасается насильственных действий, которым боится противостоять.19
____________
19 С. 81—82. Наст. изд.
Однако оценка языка как принципиально свободной от насилия сферы становится понятна только в контексте учения Беньямина о чистом языке «божественных» имен. Ибо связанный с «истинами» права — вины и наказания, дознания и признания, и, в конечном счете, пониманием человека как насильника и убийцы, преступника и зверя, удерживаемого только цепью законов, — язык, напротив, представляет собой одно из самых изощренных орудий насилия. Беньямин об этом знает.
Отсюда и догадка: тема лжи, которая столь неожиданно всплывает у Беньямина в этой статье при анализе техники ненасильственных отношений, является не только симптомом разложения права, но и принципиальной характеристикой чистого языка в его столкновении с правовым дискурсом. Мы намекаем на возможность понимания языка именно в модусе лжи, как не соответствующей действительности фикции, как абсурда, которые воспринимаются юридическим сознанием в качестве прямой угрозы своему существованию (как только (литературные) призраки языка выбираются из резерваций литературоведения). Ибо только право оценивает такое употребление языка буквально, характеризуя и преследуя его как ложь.
Беньямин продумывает способы ненасильственного использования языка, учитывая непреодолимость самого насилия в истории. Он уподобляет эту двусмысленную ситуацию неразрешимому вопросу о «правильном» и «неправильном» в становлении языков. Ведь неразрешимость последнего не мешает людям общаться. Но именно по аналогии с идеей «чистого, божественного языка», исключающего язык общения и сообщения в статье о языке 1916 г., Беньямин в финале своей Критики насилия предлагает альтернативу этим роковым обстоятельствам в концепции «чистого, божественного насилия».
Он пытается обосновать позицию, которая на фоне пафосных деклараций националистов, мифологов и этатистов всех мастей выглядит довольно беззащитно. Он пишет о тонком чувстве (ein feineres Gefühl), которое «считает себя бесконечно далеким от отношений, в которых судьба являла бы себя во всем величии в насильственном акте».20 Но это чувство может выступать только субъективной основой для продумывания возможностей принципиальной критики правового насилия. Разум, или даже кантовский рассудок (Verstand), должен, напротив, предельно сблизиться с упомянутыми отношениями.
____________
20 С. 77. Наст. изд.
Ближайшим основанием критики насилия выступает, по Беньямину, некая метафизическая категория, на которую опирается право в своих ситуативных решениях. Речь идет о некоей функции насилия, которая не сводится к средству для достижения некоторой цели (т.е. грабежу), но способна устанавливать относительно устойчивые правовые отношения. Именно этой правоустанавливающей функции насилия, которая подспудно присутствует и в пролетарской всеобщей забастовке, боится государство, противостоя ему насильственным путем.21
____________
21 С. 72. Наст. изд.
Здесь у Беньямина просматривается некоторая двойственность, обусловленная сложностью отношений между понятием «божественного насилия» и «правоустанавливающего насилия», функцию которого пролетарская забастовка неким образом задействует, если и не применяет непосредственно. Ибо, с другой стороны, Беньямин настаивает на том, что пролетарская забастовка (в смысле Ж. Сореля, отличавшего ее от «грабительской» политической революции) применяет только чистые средства, и поэтому в высшей степени нравственна.22
____________
22 С. 84. Наст. изд.
Столь тревожащий современных критиков Беньямина (Деррида, Жижек, Агамбен) вопрос, находит ли он оправдание революционному насилию, или, точнее, оправдывает ли он его, однозначного ответа в этом тексте не получает. С одной стороны, Беньямин осуждает правоустанавливающее насилие мифа и государства, с другой — одобрительно взирает на «оскорбление чувства справедливости» в результате установления нового права, на которое способна пролетарская забастовка.23
____________
23 С. 72. Наст. изд.
Дело в том, что оценивать насильственное действие, по его мнению, следует только на уровне применяемых им средств, а не возможных последствий. Средства пролетарской забастовки ненасильственны — это просто саботаж, воздержание от работы, скорее не-деяние, чем акт. Это своего рода «ложь», которая может вызвать насилие со стороны «обманутых», но сама за это не отвечает.
Однако задача Беньямина состояла совсем не в том, чтобы обосновать право угнетенных классов на применение насилия или оправдать его. Тем более, что они не нуждаются в подобном обосновании и оправдании, выходя на улицы всякий раз, когда условия труда не позволяют жить дальше. Мы просто встречаемся здесь с различными уровнями анализа. Беньямину принадлежит парадоксальная идея, охотно цитируемая Адорно, что даже смертная казнь может быть и нравственной, и моральной, но ее легитимация — никогда.24
____________
24 Ср.: Адорно Т. Негативная диалектика. М., 2003, С. 258.
Ситуацию с оправданием насилия в революции Б. иллюстрирует на примере заповеди «не убий». Индульгенцию на убийство, «право» убивать всеобщая пролетарская забастовка не выдает. Но сама библейская заповедь не носит однозначно запретного характера: «Заповедь выступает не как мера приговора, а как руководство к действию, предназначенное для отдельно действующего человека или сообщества, которые должны наедине с собой осмыслить ее, а в чрезвычайных случаях даже взять ответственность на себя, отвернувшись от нее»25. Поэтому самооборона (напр., в иудейском праве) представляется допустимым насилием, хотя также свидетельствует о противоречивости и неразрешимости правовых основоположений.
____________
25 Наст. изд. С. 93.
С другой стороны, в рамках введенного эксклюзивного различия божественного и мифического, Беньямин действительно преследовал цель обоснования возможности «чистого», революционного насилия. Чистота его остается, однако, сомнительной, хотя и не в отношении к другим видам насилия — правовому, системному, мифическому, а по отношению к себе самому. Беньямин это понимал, когда оговаривался, что в каждом конкретном случае решать, насколько насилие является чистым, «менее возможно». Однако решение этого вопроса, по Беньямину, может и подождать, ибо проблема не в этом.
Революция для Беньямина — это своеобразное цитирование редких просветлений или вопиющих событий прошлого, только и позволяющее разрывать континуум пустого настоящего, катящегося по инерции забвения к абстрактному будущему из якобы мертвого прошедшего. В этом смысле она не столько «локомотив истории» (Маркс), сколько «стоп-кран, за который хватается его пассажир — человечество»26. Беньямин относится здесь к идеям Маркса по-марксистски, избегая превращения справедливо секуляризованного в историческом материализме стремления человечества к счастью в достижимый, но бесконечно откладываемый идеал, ресакрализованный его эпигонами в идее «законов истории».27
____________
26 Benjamin, W. Gesammelte Schriften. Bd. I/3. S. 1232.
27 Б. категорично заявлял в этой связи: «Ничто не коррумпировало немецкий рабочий класс в такой степени, как мнение, что он плывет по течению». XI тезис «О понятии истории». С. 243. Наст. изд.
Но дело здесь не только в диалектике личности и коллектива, произвола и закона, свободной воли людей и величественной поступи истории. Массы не являются, согласно Беньямину, субъектами божественного насилия, они только могут быть его протагонистами. Впрочем и «сам» бог, по Беньямину, таким субъектом не является.
Именно бессубъектностью божественное насилие принципиально отличается от мифического. Беньямин описывает последнее как инстинктивное стремление достигать целей выживания и господства. Но он показывает, что насилие такого рода никогда не является простым средством к достижению такого рода «естественных» целей. Вслед за Ницше он намекает, что даже если человек достигает с его помощью каких-то своих целей, он получает от его применения и нечто дополнительное — избыточное удовольствие. А оно в экономику средства-цели никак не вписывается, подтачивая базирующееся на ней право изнутри.
Неопосредованную функцию насилия, представленную в мифах в фигурах гнева богов и героев («Гнев, о богиня, воспой...», и т.д.), Беньямин понимает как чистую манифестацию их бытия (т.е. даже не воли). За этой мифической суппозицией скрывается насилие, которое совершает человек, ссылаясь на свой «праведный гнев». Человек не следует здесь праву, не использует насилие как средство для достижения оправданных целей. Он учреждает новое право. Задача Беньяминовой критики насилия в этом смысле состояла в обнаружении соответствующих «сильных мест» в современном праве, непосредственно происходящих из мифического насилия. Замешанное на несколько иных, нежели «сердечная вежливость и симпатия», чувствах — аффектах гнева и удовольствия от страдания другого человека28 — оно способно подвести человечество только к порогу самоуничтожения.
____________
28 А ведь именно эти чувства еще раньше обнаружила генеалогия Ницше в инцестуальной связи правовых норм и моральных основоположений.
Но остается вопрос: кто или что может гарантировать справедливость в человеческом обществе в ситуации непреодолимого в истории насилия? Только «бог». Однако божья справедливость, как иронично замечает Беньямин, разуму большинства людей недоступна. В виду божественного отсутствия его место охотно занимает рок, демоны и мифы. Поэтому Беньямину и понадобилась эта метафора плана трансценденции, разрывающего имманентность жизни во внезапных и необъяснимых вторжениях смерти.
Но божественное насилие отнюдь не сводится к смерти, неизбежности конца, небытию, ибо тогда оно не соответствовало бы приводимым Беньямином демонстративным примерам (как, например, поражение сыновей Коревых из Апокрифа Иисуса, сына Сирахова). Скорее это его изнанка — пустота и абсурд. Поэтому божественное насилие, согласно заключительным строкам «Zur Kritik der Gewalt», — это не средство божьей кары, а только ее печать, столь же бессмысленная на первый взгляд, как и подпись. Она властвует (waltet), но не распоряжается. Мы просто несем ее на себе, как собственное имя (Walter).29
____________
29 Надо отдать должное Деррида: Вальтер Беньямин действительно изрядно мистифицировал эту игру слов.
Различения, символы, образы, метафоры, к которым прибегает Беньямин в большинстве своих работ, ведут нас, часто ощупью, «сквозь пустоту навстречу своему прошлому». Это и есть путь Буцефала, избавившегося от своего беспокойного наездника и повернувшего вспять, чтобы осмыслить путь, пройденный под седлом великого завоевателя.30 Д-р Буцефал, этот «новый адвокат» Кафки, занялся на пенсии не то чтобы юриспруденцией, сколько критическим чтением «наших юридических фолиантов». Здесь надо только учитывать, что во времена Александра Македонского Буцефал был еще и животным, медиумом забвения. Соответственно его ретурнель — это еще и «путь к зверинцу».31
____________
30 Ср. Беньямин В. Кафка... С.93 и сл.
31 Там же. С. 83 и далее.
В анализе этого образа Кафки Беньямин существенно уточняет интересующее его на протяжении всего творчества отношение между мифом, правом и справедливостью: «Право, которое более не применяется, а только изучается — вот это и есть врата справедливости».32
____________
32 Там же. С. 94.
Кстати, Ницше, занимавшийся близкой Беньямину проблематикой, за границы своей метафорики также не вышел.33 Но вот в отношении диалектики забвения и памяти он высказался вполне определенно: человек — это «животное, смеющее обещать».34
____________
33 Сколько бы ни пытаться понимать буквально его «падающего еще толкни».
34 См. Ницше Ф. К генеалоги и морали. Т. I. М., 1990. С. 439 и далее.
Ясно, что в теме насилия забыто нечто существенное. Но является ли это забытое оправданием для человека или его вечной, неискупимой виной? Сама природа этого забытого такова, что не позволяет ничего вспомнить, даже будучи названной. Это и означает, что здесь забыто само забвение. Но, как заметил Беньямин, именно благодаря забвению забытое присутствует в нашей современности35. Сам язык, в котором мы только и можем что-то вспомнить о насилии, сам дискурс насилия есть знак этого забвения. Печать «божьей кары», о которой писал Беньямин в конце своей «Критики насилия», ничем другим и не является.
____________
35 См.: Беньямин В. Франц Кафка... С. 81, 106. Беньямин соглашается с В. Хаасом, что именно забвение является главным действующим лицом «Процесса», «Замка», да и почти всей литературы Кафки.
11.11.11
И. Болдырев, И. Чубаров
СОДЕРЖАНИЕ
О языке вообще и о человеческом языке ... 7
Письмо Мартину Буберу [О сущности языка] ... 27
О программе грядущей философии ... 31
Судьба и характер ... 52
К критике насилия ... 65
Капитализм как религия ... 100
Краткая история фотографии ... 109
Автор как производитель ... 133
Учение о подобии ... 164
О миметической способности ... 171
Дерево и речь ... 188
Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости ... 190
Теолого-политический фрагмент ... 235
О понятии истории ... 237
Задача переводчика ... 254
Послесловие составителей ... 271
Примеры страниц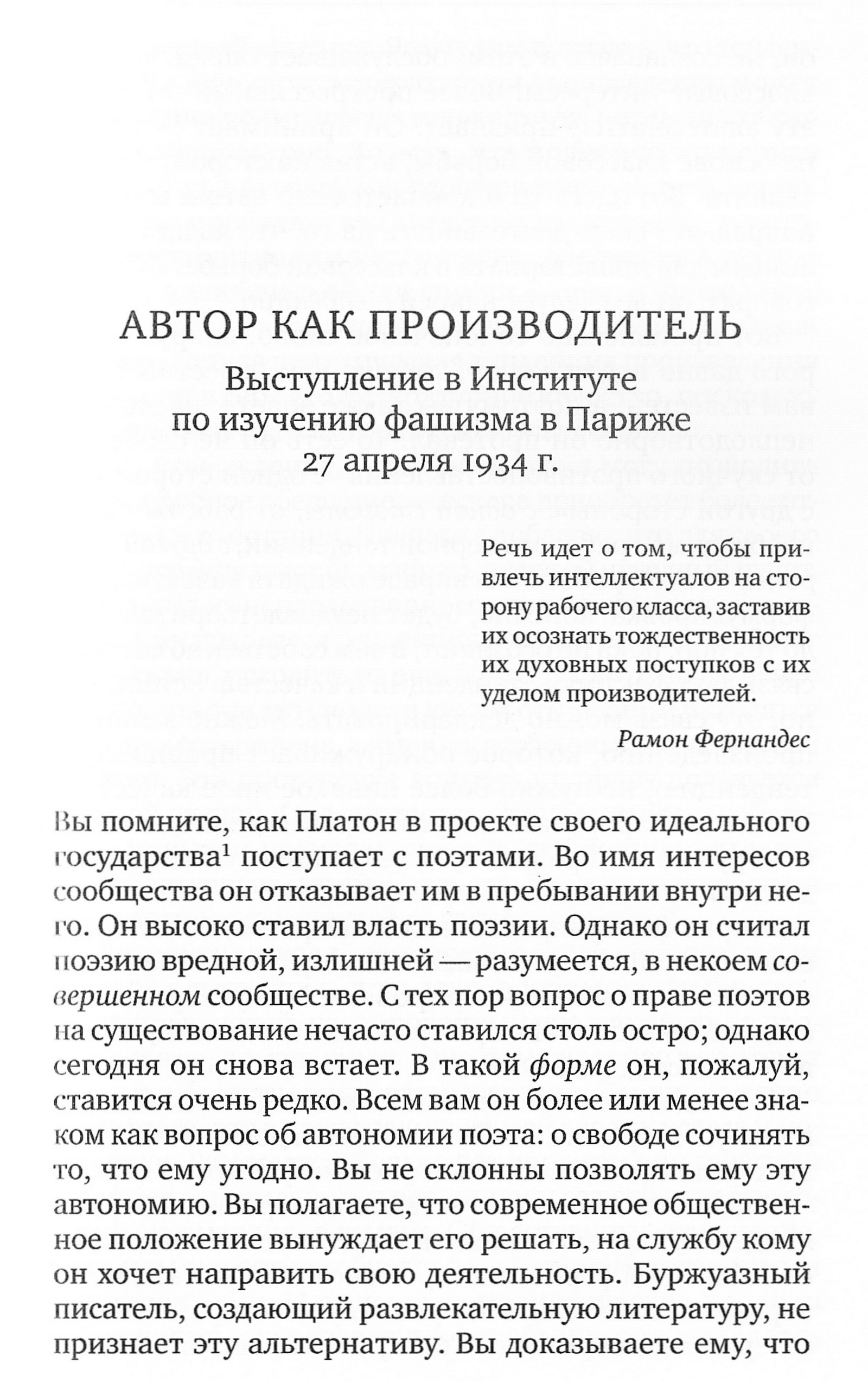 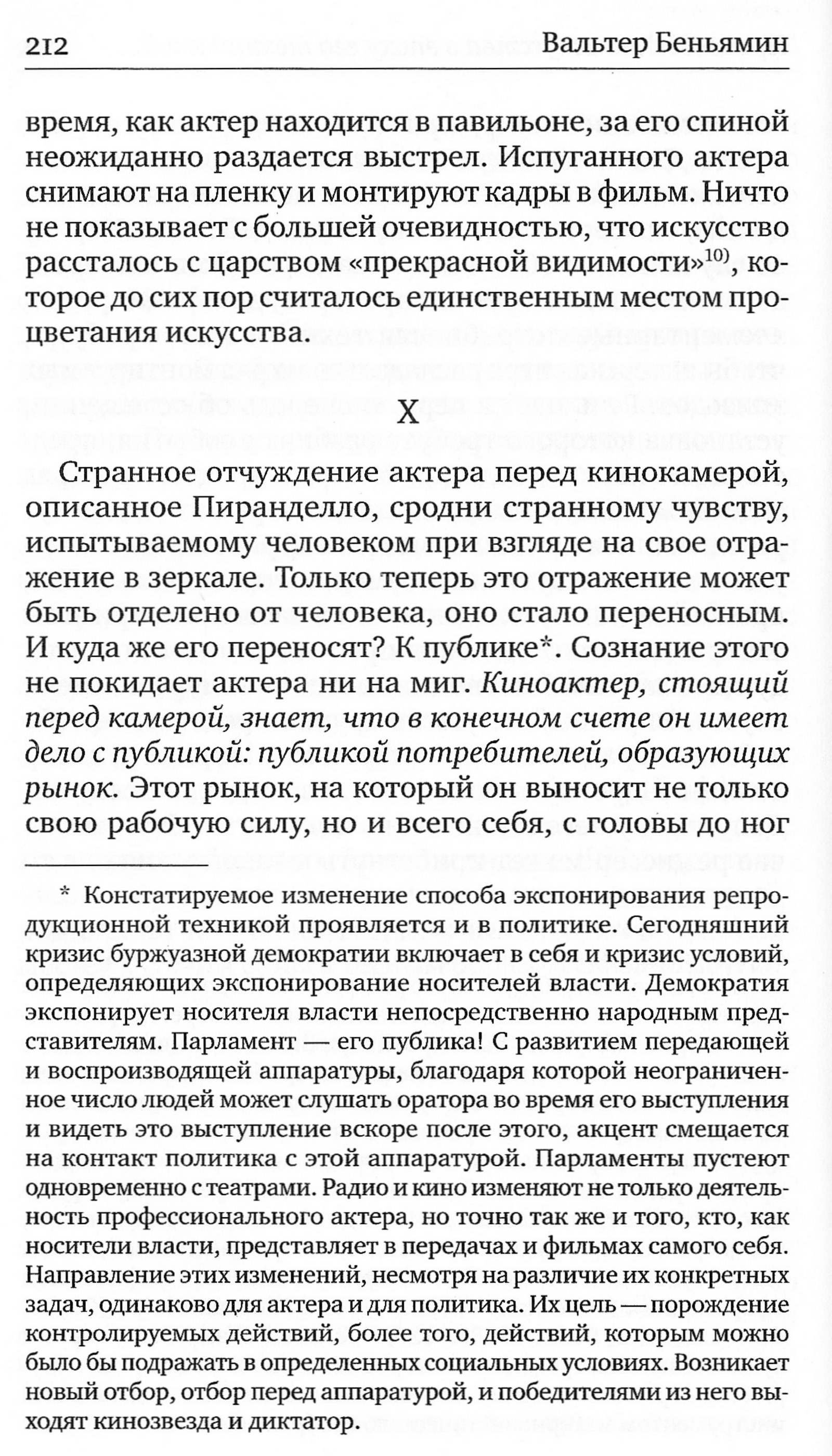
Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 298 МБ)
Скачать издание в формате djvu (яндексдиск; 2,7 МБ)
Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу 42@tehne.com.
3 июля 2021, 18:02
0 комментариев
|
Партнёры
|






Комментарии
Добавить комментарий