|
|
Дзига Вертов в воспоминаниях современников. — Москва, 1976Дзига Вертов в воспоминаниях современников / Составители: Е. И. Вертова-Свилова, А. Л. Виноградова; Общая редакция доктора искусствоведения И. Я. Вайсфельда. — Москва : «Искусство», 1976. — 280 с., ил. — (Мастера кино в воспоминаниях современников).
Это одна из первых книг серии «Мастера кино в воспоминаниях современников». Своими воспоминаниями о выдающемся советском режиссере-документалисте делятся писатели и кинематографисты (В. Шкловский, С. Ермолинский, С. Юткевич и другие), а также соратники и ученики Вертова. Со страниц сборника возникает образ обаятельнейшего человека и неустанного в своих поисках художника, чьи мысли и чей опыт навсегда вошли в сокровищницу советского и мирового киноискусства. Книга представляет интерес для широкого круга читателей.
М. БЛЕЙМАНИстория одной мечты(Вместо предисловия)
Специализация в кинематографии возникла чуть ли не в тот самый момент, когда братья Люмьер сняли на пленку приход поезда и смешную историю о том, как человека, поливавшего клумбу цветов в каком-то парижском саду, самого облили водой. Так мгновенно размежевались участки хроники и игровой кинематографии.
Сообразно этому разделили свои интересы историки и критики. Это закономерно, и оспаривать дифференциацию вряд ли необходимо. Материал для исследований того или иного вида кинематографии становится необъятным, и желание установить границы исследований вполне естественно.
Однако нельзя не сказать, что от этой специализации мы кое-что и теряем. Исчезает единство развития искусства, анализ его становится, так сказать, «ведомственным» потому, что историки и теоретики одного жанра остерегаются вторгаться на заповедную территорию другого.
А ведь искусство существует не в безвоздушном пространстве саморазвития, и история его состоит в непрестанной борьбе одних методов с другими, в обмене эстетическими находками, во вторжении не только форм одного жанра, но и излюбленной им тематики в другой жанр.
Я говорю об этом не случайно, хотя моя статья посвящена отнюдь не вопросам методологии исторических исследований кинематографии.
Дело в том, что искусство знает явления, которые трудно верно понять и верно оценить, если исходить из заповедного саморазвития жанра и отказаться от привлечения фактов, характерных для других видов искусства, а впрочем, и не только их.
Больше того, я думаю, что исследование одного вида искусства методами, предназначенными для анализа другого, тоже может оказаться плодотворным. Это даже необходимо, когда объект исследования еще не до конца определился, еще не сформировал свои жанровые признаки.
Именно к такому искусству и относятся работы Дзиги Вертова, которому посвящена эта статья.
Нельзя сказать, что работы Вертова и он сам непопулярны и недооценены, хотя, чего греха таить, было время, когда о нем не то чтобы забыли, но отодвинули на периферию своеобразного жанра, в котором он работал. Конечно, в исторических работах после имен Эйзенштейна, Довженко, Пудовкина упоминали и имя автора «Ленинской киноправды», «Симфонии Донбасса», «Трех песен о Ленине». Но эти работы были, повторяю, отнесены по ведомству кинодокументалистики и в анализ общего развития не входили. Кроме того, упоминание еще не анализ, а панегирик еще не оценка.
Панегирики Вертову были. Его, что справедливо, рассматривают как зачинателя специфического типа кинематографии. О нем говорят как о пропагандисте документального кино, как о преобразователе кинохроники, как о первом кинематографическом публицисте, пропагандировавшем коммунистические идеи, как о человеке, вообще породившем жанр кинопублицистики, впоследствии утвержденный не только в советской, но и в мировой кинематографии. Недаром имя Вертова как учителя упоминают не только советские кинодокументалисты, работавшие с ним и учившиеся у него, но и Росиф, Крис Маркер, Ален Рене и многие другие кинопублицисты мира.
Итак, Вертов был основоположником, изобретателем, учителем, открывателем, родоначальником жанра. Подобные эпитеты можно бесконечно умножать.
Но одновременно существует и другой облик Вертова. Пожалуй, нет ни одной работы о нем (кстати, их у нас очень мало, и, кроме книги Н. П. Абрамова «Дзига Вертов», изданной Академией наук СССР в 1962 г., я специальных исследований, ему посвященных, не знаю), в которой бы не упоминалось о его ошибках, о формалистических влияниях, которым он одно время поддался, и, наконец, о том, что его практика зачастую противоречила его же теориям и если его картины были хороши, то теоретические убеждения порочны.
Нужно сказать, что эти упреки (так же, как и похвалы) сопровождали Вертова на протяжении всей его творческой жизни, причем в непоследовательности и приверженности порочным идеям его упрекали даже те критики, которые его картины хвалили. В том числе, например, такой чуткий к новаторству критик, как В. Шкловский.
Аккуратности ради должен упомянуть, что примерно такой же точки зрения придерживался и автор этой статьи.
В результате возник образ талантливого одиночки, который делал отличные фильмы вопреки своим же творческим установкам, а когда эти установки осуществлял, терпел неудачу.
Поистине странная судьба и странный путь художника!
Потом, уже много позже, ошибки Вертова амнистировали. В статьях о нем, написанных к юбилейной дате, если о них и упоминали, то вскользь. Поставили бережную к его памяти картину «Мир без игры».
Но загадка Вертова не решена до сих пор. Не установлен подлинный его масштаб влияния на кинематографию не только документальную, не решен вопрос, как на основе «порочных» теорий Вертов ставил превосходные картины, пропагандировавшие передовые идеи времени, идеи коммунизма.
Конечно, с моей стороны было бы самонадеянным, никогда не занимаясь вопросами развития документальной кинематографии, пообещать решить все эти загадки. Однако мне хотелось бы содействовать их решению хотя бы тем, что скажу, как и почему эти загадки возникли.
Мне кажется, что дело было не только в ошибках Вертова (у кого их не было?!), а в теоретических позициях его критиков, как бы они ни были правы. Они подходили к творчеству Вертова не с той стороны. Они взяли на веру догмы, провозглашенные Вертовым, и не захотели осмыслить их истоки.
Констатировать ошибки творческих деклараций (а их писали все) нетрудно. Они были совершенно очевидны. К тому же набор суровых слов для определения и квалификации ошибок был выработан на все случаи жизни.
Мало кто задумывался над тем, что Эйзенштейн, руководствовавшийся ошибочной теорией «монтажа аттракционов», поставил на основе этой теории величайший фильм всех времен «Броненосец «Потемкин» или что хулиганы и озорники «фэксы», сочинившие модернистскую и формалистическую декларацию, создали фильмы, ставшие гордостью советской революционной кинематографии. Не буду множить примеры — в биографии чуть ли не каждого из мастеров, которыми мы теперь справедливо восхищаемся, были ошибки, модернистские, формалистические, натуралистические, какие угодно.
Я не хочу амнистировать эти ошибки, тем более что они действительно были. Но задача историка (а время для истории уже пришло) не только в том, чтобы их констатировать и осудить, но и прежде всего в том, чтобы выяснить, откуда и как они возникли.
К числу осужденных историками документов относятся и творческие декларации Вертова. Они были написаны яростно, полемично, категорично (даже, в известной степени, рекламно-крикливо). В этих декларациях Вертов отрицал все предыдущее развитие кинематографии и утверждал принципы, никакой практикой не подкрепленные. Но Вертов вскоре после опубликования декларации доказал серьезность своих намерений. Он создал двадцать три номера «Киноправды», среди которых была и незабываемая «Ленинская», сделал «Шагай, Совет!» и «Шестую часть мира».
Н. П. Абрамов — добросовестный и серьезный исследователь, который ввел в оборот некоторые до сих пор неизвестные документы о творчестве Вертова. Но и он не смог удержаться от упреков Вертову в формалистических и модернистских ошибках.
Но вот что интересно: цитируя «Киноки. Переворот», исследователь не мог удержаться от изумленного признания того, что многое сказанное в этом формалистическом манифесте плотно вошло в обиход современной кинематографии.
Отсюда возникает возможность утверждать, что то, что современникам казалось формалистической утопией, было предвидением, взглядом вперед. Конечно, это соблазнительно, хотя и неверно. Ошибки в манифестах Вертова были, но смысл их был совсем не в том, в чем его находили.
Одновременно в позитивной программе Вертова были новизна и мощный революционный посыл. Все это было вместе — и ошибки и предвидение.
И тут нужно обратиться к тому, в какой исторической обстановке зародилось искусство Вертова, чем оно было определено, какими запросами времени.
В своей книге Н. Абрамов сообщает, какие фильмы шли на советских экранах в ту неделю, когда был опубликован манифест «Киноки. Переворот». Не буду приводить здесь этот список. Важно напомнить только, с каким репертуаром боролся Вертов, какие фильмы он отрицал. Если сопоставить текст «Киноки. Переворот» с фильмами вроде «Глаза мумии», «Тайна шимпанзе Жако», «Холостяк в лапах красавицы» (это иностранные фильмы) или с «Иолой» и «Масонами» (отечественные фильмы были не лучше), станет понятной ярость Вертова, его призыв ликвидировать и детективы, и салонные драмы, и снятые на пленку театральные спектакли. Вертов отрицал не только репертуар художественной кинематографии, но и ее самое как художественную деятельность. Не стоит извинять Вертова тем, что в пору написания манифеста «Киноки. Переворот» другой, «хорошей» кинематографии не было. Вертов не нуждается в том, чтобы его извиняли.
Декларации Вертова отрицают художественную кинематографию независимо от ее дурного или хорошего качества. И теория и практика Вертова обращены на создание принципиально нового кинематографа, который перестанет быть только искусством и станет чем-то большим, чем искусство. Он будет служить отражению реального мира, но главное, переделке его. Для Вертова кинематограф должен стать одной из форм жизнестроения.
Тут мне понадобится отступление от кинематографической темы. Нужно, пусть схематично и кратко, описать то, что происходило в искусстве эпохи, и прежде всего в советском искусстве.
Совсем не случайно в двадцатых годах во всех видах искусства возникла настойчивая потребность в пересмотре эстетического арсенала и, что гораздо важнее, в поиске нового назначения художественной деятельности. Это происходило и в литературе, и в театре, и в искусстве изобразительном, и в музыке, и, конечно, в новом искусстве кинематографии.
Существует популярное и отчасти справедливое объяснение этого явления. После Октябрьской революции художники столкнулись с новой действительностью, с новым ее развитием, с новым героем этой действительности и хозяином исторического процесса — народными массами. Возникла необходимость воплотить в искусстве революционный процесс. Старые методы художественной выразительности для этого не годились. Нужно было искать новые выразительные средства.
Эта схема безукоризненно логична и, казалось бы, способна объяснить новаторскую природу советского искусства.
Но тогда почему именно тяга художников к новаторству подвергалась критике, почему новаторов обвиняли в формализме, в вульгаризации исторического процесса, в вульгаризации самого искусства и, наконец, в подражании западному модернизму, который был, как, впрочем, всегда, характерен не для роста общественного сознания, а для его распада?
Легче всего было бы сказать, что новаторы не были поняты и потому-то их критиковали. Но как не признать, что критика была до известной степени справедливой, хотя слова «до известной степени» нужно подчеркнуть.
В двадцатые годы почти одновременно и в западном, капиталистическом мире и в нашем новом, социалистическом обществе возник процесс послевоенной индустриализации, тот, который можно считать дальним подступом к современной научно-технической революции.
Автомобиль вторгался на улицы и социалистических и капиталистических городов, авиация и радиотехника изменяли представление о пространстве и времени, возникали новые скорости, новый темп жизни.
В быт человека входило множество новых вещей, возникал новый, индустриальный пейзаж, даже новая звуковая среда.
Искусство не могло оставаться в стороне от этого процесса. Возникла потребность в эстетическом освоении нового мира вещей, нового облика мира, нового его ритма.
Но нельзя обманываться аналогиями и ограничиваться ими. Было существенное и определяющее различие в сути и назначении этого процесса. В одном случае рождающаяся индустрия служила целям все большего превращения человека в придаток машины, в другом — целям полного его освобождения от всякого рабства. И это при внешнем сходстве породило существенные, коренные различия.
В западном обществе все дело свелось к воспеванию новых, индустриальных форм, к введению их в художественный обиход, к новой, вещной эстетике. В кинематографическом искусстве все, в сущности, осталось по-старому, только появилась новая школа «Авангард», опиравшаяся на теорию фотогении, автор которой, Луи Деллюк, утверждал, что кинематография по своей природе призвана воплощать новые, индустриальные формы, тогда как старые, не индустриальные «нефотогеничны».
Совсем по-другому дело обстояло у нас, где все усилия революционной страны были обращены на построение нового, социалистического общества. Искусство было обращено не только на пропаганду социализма, но и пыталось принять материальное участие в его построении. Так возникли и теоретически и практически обоснованные попытки жизнестроения. Искусство как способ образного отражения мира было отвергнуто. Задача состояла в преобразовании этого мира. Такой поворот был абсолютно немыслим для западного искусства, он мог возникнуть только в революционно развивающейся стране.
Попытки жизнестроения возникали в различных формах — и простых и сложных. Конечно, было наивно то, что В. Мейерхольд одел персонажей «Великодушного рогоносца» в прозодежду, которая должна была стать пропагандой нового универсального костюма эпохи социализма. Конечно, было наивным то, что живописцы отказывались от презрительно осужденного «станковизма» и обращались в одних случаях к плакату, а в других к конструированию мебели и бытовой утвари.
Над этим смеялись уже тогда, когда тенденции только созревали. И напрасно. Ведь иные замыслы были по-своему величественны. Как ни критиковали, ни высмеивали Татлина и за «контррельефы» и за проект его башни, находя в нем и формализм и бессмыслицу, не нужно забывать, что он создавал эскиз памятника-здания, предназначенного для Третьего Коммунистического Интернационала.
Наши новаторы отрицали искусство, способное только украшать или отражать, копировать жизнь. Жизнь нужно было конструировать, создавать, делать.
Не буду касаться сложного вопроса о том, что в искусстве всегда существует движущее его противоречие между «отражательными» и конструктивными «созидательными» элементами.
Мне важно только подчеркнуть, что в описываемую эпоху искусство стремилось к самоликвидации, стремилось стать элементом жизнестроения.
Конечно, сегодня с позиций нашей эстетики, выстрадавшей и отстоявшей реализм, теория отрицания искусства ради жизнестроения кажется и примитивной и неверной.
Однако позволю себе заметить, что это не совсем так.
Из интереса к строению вещей, к конструированию новых жизненных форм в другую эпоху возникло закономерно такое полезное искусство, как дизайн, необходимый и для индустрии и для общежития. Он вобрал многие принципы, выдвинутые «вещистами» и конструктивистами двадцатых годов.
История искусства не гладкое, равномерное, поступательное движение по заранее известной дороге и к заранее определенной цели. Каждая новая эстетическая система стремится к гегемонии, к универсализации, к тому, чтобы уничтожить или поглотить все предыдущее развитие. Но проходит время, и, если новое искусство отвечает потребностям времени и выражает его, оно находит свое законное место в истории и, кроме того, служит развитию.
Так произошло и в кинематографии. Возникшие как выражение крайних позиций, как отрицание всего предыдущего искусства, работы Вертова оказались чрезвычайно плодотворными для него, в той же мере, как оказались необходимыми для кинематографии, тоже крайние, тоже стремившиеся ликвидировать ее, работы Эйзенштейна.
Вертов был рожден своим временем и не мог не отозваться на идею жизнестроительства, на поиски нового назначения для нового, но уже архаизированного искусства кинематографии.
Поэтому он должен был начать с отрицания всего, что было сделано до него, тем более что кинематография не знала своего Пушкина, которого нужно было «сбросить с парохода современности». А ведь и на Пушкина посягали.
Не нужно выговаривать Вертову за «ошибки», которые совершал не он один, но вместе со ставшими классиками Маяковским, Мейерхольдом, Эйзенштейном.
Он, как и они, искал новое приложение для искусства, новую его общественную функцию. Он искал способ воплощения новой действительности, усовершенствования ее, возможности содействовать рождению революционно-нового.
Он пытался установить прямые связи между искусством и жизнью, он хотел не только отразить реальность, но и чтобы искусство стало реальностью, а реальность искусством.
Старое искусство было отягощено предрассудками, штампованными моделями, привычными характерами и шаблонными ситуациями. От него нужно было отказаться.
Отсюда и возник лозунг «киноков» о «жизни врасплох», о том, что нужно фиксировать жизнь во всех ее проявлениях, минуя посредника, которым является человек с подозрительной профессией «художника».
Отсюда и восторженная универсализация возможностей «киноглаза» и «радиоуха», которые способны запечатлевать жизнь лучше и полнее, чем ограниченные и отягощенные субъективными ассоциациями и вкусовыми пристрастиями человеческие глаза и уши.
Однако не нужно противопоставлять манифесты Вертова «Ленинской киноправде», как не нужно противопоставлять «киноглаз» «Шестой части мира», а «Человека с киноаппаратом» — «Симфонии Донбасса», как это подчас делают, отделяя в творчестве Вертова «зерна» от «плевел». Для меня все эти фильмы и все декларации — звенья одной цепи, одного творческого развития, закономерного и последовательного.
Противоречия в развитии Вертова, загадка его работ в другом.
Все дело в том, что в искусстве нередко случается, что из как будто до конца осознанных и выстроенных теоретических предпосылок вырастает совсем другое произведение, чем то, которое было задумано.
Работы Вертова обычно рассматривают как основополагающие для документальной кинематографии.
Конечно, это справедливо, и я не собираюсь оспаривать их первородство в этом жанре. Но стоит ли этим ограничиваться?
Мне довелось прочитать удивительную по теоретической зрелости работу дипломантки ВГИКа В. Ипполитовой, посвященную документальной кинематографии. Она обратила внимание на то, что работы Вертова в документальном жанре во многом смыкаются с работами Эйзенштейна в жанре художественном.
Дело, конечно, не в зависимостях и не во влияниях. Нетрудно предположить: то, что сделано ими, вызвано общим для обоих мастеров пониманием ставших перед кинематографией задач.
То, что Эйзенштейн и Вертов по-разному их решили, вернее, оба не решили и разошлись, ранее не сходившись, в данном случае ничего не значит. Речь идет не об организационной, а о творческой общности.
Эйзенштейн опирал свое искусство не на общеизвестные эстетические, жанровые, стилистические схемы, а искал опору в реальности, в подлинном материале жизни, который для него не был заранее эстетизирован, а становился искусством в процессе его познания, в процессе образного его претворения. Отсюда небывалое не только для кинематографа, но и для искусства в целом художественное решение «Потемкина», в котором реальный корабль, внимательно и подробно изображенный, стал не только объектом эстетического восхищения, но и образом побеждающей революции. На основе принципов, найденных в «Потемкине», был поставлен и «Октябрь», в котором смелая поэтическая метафоричность, свобода обращения с материалом, ранее казавшимся недоступным для искусства, почти противоестественно сочетались с адресованностью некоторых эпизодов, с почти натуралистическим воспроизведением их подлинного течения. При всей своей прихотливой метафоричности почти каждый кадр «Октября» документирован, воссоздан до деталей по фотоматериалам и показаниям участников событий. Недаром документалисты считают возможным использовать отдельные эпизоды «Октября» как подлинный материал (особенно это относится к эпизоду расстрела июльской демонстрации), с такой натуральной тщательностью они воссозданы Эйзенштейном.
Эйзенштейна упрекали даже благожелательные к нему критики и в натурализме и одновременно в украшательстве, которые, сосуществуя, разрывали единство стиля картины. Это было верно с позиций канонического, привычного понимания стиля. Но в том-то и дело, что Эйзенштейн вовсе не стремился к единству, к «гладкости» этого стилистического единства. Он сознательно сталкивал различные стилевые пласты так, как они сталкивались в реальности. Например, Зимний дворец, который обычно воспринимается как некий законченный и совершенный памятник архитектуры, был воспроизведен в картине во всей своей эстетической реальности так, чтобы возникло столкновение между этой законченностью и бурным, динамичным движением народных масс, этот архитектурный памятник осаждавших. Эйзенштейну был нужен эстетический контраст, а не эстетическое единство. Этот контраст ему предложила реальная история.
В «Октябре» еще в большей степени, чем в «Потемкине», Эйзенштейн стремился создать историческую хронику, точную и адресованную к реальности. То, что эта хроника становилась фактом искусства, для него значения не имело.
Недаром в ту пору им была написана интересная теоретическая статья «По ту сторону игровой и неигровой».
Как будто полемическая по отношению к теоретическим утверждениям Вертова, эта статья со многим у Вертова смыкалась. Эйзенштейн говорил, что задача кинематографа состоит в том, чтобы преодолеть описательность хроники и одновременно произвольность трактовки фактов, присущую традиционному искусству. Хроника для Эйзенштейна и случайна, и описательна, и однозначна. Одновременно искусство страдает от стихии субъективизма, поэтому оно искажает действительность, драгоценную в своей подлинной сути. Эйзенштейн искал пути создания осмысленной хроники, воспроизводящей не случайность «жизни врасплох», а жизненные исторические закономерности, свободные от произвольных трактовок.
Но разве не о том же мечтал и Дзига Вертов? Различие между ним и Эйзенштейном, конечно, было, но во многом разве терминологическое. Эйзенштейн хотел создать искусство высшей познавательной объективности. Того же хотел и Вертов, но полагал, что создать такой кинематограф можно только работая с документом. Поэтому он отрицал искусство, которое утверждал Эйзенштейн. Но хотели они одного и того же.
Нужно подчеркнуть, что и тот и другой считали основным условием создания такого «объективного» кинематографа натуральность, верность действительности.
Была еще одна точка совпадения. Вертов при помощи «киноглаза» и «радиоуха» стремился создать универсальное зрелище, призванное заменить искусство и прямо содействовать жизнестроению, минуя эстетическое посредничество.
Эйзенштейн шел к той же идее, но не так прямо. Он накапливал материал для создания идеи «интеллектуального кино», универсального киноязыка.
Повторяю, различия между Вертовым и Эйзенштейном существовали, но были и совпадения взглядов и устремлений. Одно из проявлений общности состояло в том, что логика развития их же искусства, незаметно для них самих, преобразила, опровергла их же теоретические предпосылки.
Но об этом несколько позже.
О том, что значение Вертова для кинематографа нельзя ограничивать реформой, произведенной им в съемке кинохроники, свидетельствует вся его работа.
Конечно, все его фильмы противостоят хронике каких-нибудь «Пате» или «Гомона», в которых примитивно и бездумно соединялись разного рода сенсации, от съемки визитов королей и императоров до съемок наводнений и пожаров. Старая хроника свято исповедовала принцип, иронически сформулированный, кажется, В. Дорошевичем: если собака на улице укусит человека, это не событие, достойное газеты; другое дело, если человек укусит собаку — это сенсация.
Вертов, и так, наверное, нужно рассматривать раскритикованную идею «жизни врасплох», установил публицистическую и историческую ценность каждого куска реальной жизни. Он требовал фиксации на пленку неинсценированных и несенсационных событий, во всей их парадоксальной и противоречивой пестроте.
Конечно же, никакой «крамолы» тут не было. Сектантство Вертова заключалось в том, что Вертов отрицал правомерность другого использования кинематографа. Так же, по-моему, несостоятельно и обвинение Вертова в натурализме. Ведь он вовсе не универсализирует документальные съемки, наоборот, требует их осмысления вне их прямого «отражательского» значения.
Вспомним, что реформу кинохроники Вертов начал с «Киноправды», противопоставленной, как справедливо замечает Н. Абрамов, и «Госкинокалендарю» и «Кинонеделе», снимавшимся по старинке. В «Киноправде» Вертов впервые сгруппировал материал не по принципам сенсационной мозаики фактов, а выделив наиболее существенные черты времени, создавая документальный образ эпохи. Хроника в «Киноправде» становится публицистикой.
Был спор между Эйзенштейном и другими теоретиками — как понимать монтаж? Является ли он сцеплением, сочетанием или столкновением кусков. Меня не интересует сейчас, кто был прав в этом споре. Важно другое, то, что Вертов, как и Эйзенштейн и Кулешов, обратился к монтажу в качестве способа организации нейтрального по своей сути натурального материала съемок, способа его осмысления и образного претворения.
Хронику не было нужды монтировать — факт говорил сам за себя, и его нужно было показать. Но Вертов размышлял не о реформе хроники, а о преобразовании искусства. И сейчас уже, в сущности, не так важно, чем пользовался он для строения монтажного образа: хроникальными съемками или специально организованными съемками, «игровыми».
Так для Вертова возник коренной вопрос кинематографии — неразрешенный и, наверное, неразрешимый. Это вопрос о «натуральной» съемочной природе этого искусства и о путях образного претворения и переосмысления снятого материала.
Для последовательного документалиста, для «съемщика» хроники этот вопрос не существует. Его задача в том, чтобы как можно более полно и зорко «снять» то, что ему предлагает жизнь. Однако Вертов не только размышляет о преодолении хроникальной однозначности, но и преодолевает ее в своей практике.
Так получается, что «апостол» документализма, апологет хроникального фильма с этой хроникальностью боролся.
Иначе говоря, он не отдавал себе отчета в том, что в кинематографии происходит борьба — «борьба обычного зрения и кинозрения, борьба пространства и кинопространства, борьба времени и киновремени»¹.
____________
¹ Н. П. Абрамов, Дзига Вертов, М., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 106.
Вертов не может уйти от условности, характерной для всякого искусства. Мало того, он хочет эту условность использовать, настаивает на ней.
А это уже уход от чистой хроникальности, от последовательного документализма, от их адресованности.
Исследователи документальной кинематографии верно определили противоположность методов работы Э. Шуб и Вертова и, нужно сказать (справедливо или несправедливо — другой вопрос), отдали предпочтение документализму Шуб.
Шуб по назначению использовала не ею снятый документ, не взрывая его фактическую природу. Метафоричность ей противопоказана. Максимум вольности в ее работе заключается в том, что монтажные сопоставления и надписи осмысляли отдельные эпизоды то патетически, то иронически. Но ирония и патетика могут оснастить любую цитату. Картины Шуб по сути своей цитатны — это собрание монтажных цитат, смысл которых всегда адресован, документальность которых не подлежит сомнению. Они датированы и интересны только как документы.
Вертов использует документ по-другому. Он сообщает снятому им факту другой смысл, он не только переосмысляет его, но и абстрагирует от датированной реальности. Он распоряжается фактами не как хронист, а как художник. Документ у него поглощается образом.
Характерно, что критика эпохи точно подметила это новое качество картин Вертова, но отнеслась к нему по-разному, часто неодобрительно. До сих пор цитируют хлесткое замечание В. Шкловского, который, увидев в фильме Вертова опрокинутый набок паровоз, заявил, что хочет знать место и время крушения и номер локомотива. В короткой рецензии о «Шестой части мира» я констатировал, что Вертов уходит от провозглашенной им же документальности и насаждает чуждый ей патетический, ораторский стиль. Так же написал об этой картине и В. Шкловский.
Были ли мы тогда правы? Конечно, если исходить из традиционных представлений о документальном кино. Но если понять задачу, которую ставил перед собой Вертов (а мы все ее не понимали), мы все жестоко ошибались и тянули его назад, к архаике «Пате» и «Гомона», пусть усовершенствованной и украшенной, но по существу неизменной.
Между тем Вертов совершенно сознательно уходил от «чистой» документальности и стремился к новому искусству, использующему документ как эстетический факт.
Вертов стремился к созданию нового, опирающегося на жизненные факты искусства, хотя искусство и отрицал. Тут действительно было противоречие. В частности, в «Киноглазе» и в «Человеке с киноаппаратом» он попытался найти новые структуры кинематографического зрелища и, может быть, даже невольно нащупал некоторые принципы зрительной поэзии (другого термина мне не найти, хотя этот неточен). Он выстраивал эти свои картины по законам лирики и подбирал материал для них не согласно сюжетной последовательности, а ассоциативно, утверждая единство путем повтора визуальных представлений и ритма.
Вместе с тем Вертову казалось, что картину, содержание ее формирует демонстрация возможностей «киноглаза», который видит глубже, дальше, больше и объективнее, чем наш — человеческий. Это оказалось не так, но ошибочное представление привело Вертова к открытиям новых возможностей съемки, таких, о которых до него и не подозревали.
Беда была не в том, что опыты Вертова по созданию нового, принципиально нового кинозрелища не удались, а в том, что полной удачи и быть не могло.
Так возникло коренное противоречие стиля Вертова — конфликт между его стремлениями и возможностями кинематографа. Это противоречие не зачеркнуло его работы. Именно оно и создало их удивительное своеобразие.
Даже непонятно, как это никто не заметил, что в эпоху создания лучших своих фильмов Дзига Вертов полемизировал с укоренившимися представлениями о хроникальном, документальном искусстве.
Об этом свидетельствуют даже названия его картин.
Хроникальный отчет о работе Московского Совета Вертов называет патетически — «Шагай, Совет!». Название тяготеет к обобщениям, а не к информации, и, нужно сказать, картина это название оправдывает.
Сделанный по заказу Госторга фильм, который должен был рекламировать экспортные возможности нашего государства, был назван «Шестая часть мира» и, сообразно названию, демонстрировал не лес и пушнину как объекты экспорта, а красоту, мощь и богатства необъятной страны. В нем была осуществлена опять-таки поэтическая задача.
Фильм о возрождении и индустриальной мощи Донбасса был вначале назван «Энтузиазм», а потом «Симфонией Донбасса» и демонстрировал не только заводы и шахты, а был призван поэтизировать энтузиазм, охвативший страну в эпоху пятилеток. Задача была в создании образа, а не в фиксации событий.
Поэтично и название фильма, посвященного осуществлению ленинских заветов, — «Три песни о Ленине». Действительно, в этом фильме была создана зрительная, песенная конструкция с зачином, рефреном и, если угодно, даже с рифмовкой.
Должен повторить сказанное — конкретность документов, их датированность, привязанность их к определенным местам и определенному времени уходят из фильмов. Деловой стиль документа заменяется иногда патетической, ораторской, а нередко и поэтической, метафорической речью.
Вряд ли необходимо здесь конкретно анализировать фильмы, определять, какими приемами создан патетический стиль Вертова. Моя задача не в этом.
Но один пример мне необходим. Кстати, эпизод, который я хочу проанализировать, стал знаменитым и ключевым для стиля. Недаром Вертов этот эпизод «Ленинской киноправды» повторяет буквально в «Трех песнях о Ленине».
Вот этот эпизод. Он демонстрирует похороны Ленина.
Н. Абрамов, так же как и я, обративший внимание на этот эпизод, замечает, что этот прием, когда слово надписи как бы продолжается в кадре, является изобретением Вертова. Это, конечно, верно, но не исчерпывает находку.
Дело не только в том, что кадр как бы продолжает надпись и они уравниваются в сознании зрителя. Важнее то, что кадр и надпись сталкиваются, формируют единство укрупненного образа — становятся метафорой. Метафоричности служит то, что кадры и надписи повторяются, как бы рифмуются. В самом деле, это рифма и словесная и зрительная: «не движется» — «движутся» и «молчит» — «молчат». Первое противопоставление, первое столкновение («не движется» — «движутся») и второе единство («молчит» — «молчат») звучат и воспринимаются многомысленно и метафорически. Тут заключена и мысль, что массы продолжают ленинское дело (поэтому «движутся»), и мысль, что массы скорбят («молчат»).
Н. Абрамов в своей книге¹ метко замечает, что открытый Вертовым прием использования надписей повторяет С. Третьяков в надписях «Броненосца «Потемкин» и приводит пример: «Один против всех... Все против одного... Один за всех... Все за одного».
____________
¹ Н. П. Абрамов, Дзига Вертов, стр. 63.
Но это только констатация повторения формального приема. Между тем дело тут глубже. Вертов использует надписи, которые должны служить информационным целям, особенно в документальном фильме (вспомним требование В. Шкловского о необходимости указать местонахождение и номер опрокинутого паровоза), как способ и укрупнения и метафоризации визуального материала.
Интересен не сам контрапункт надписей и кадров, на это указывал и сам Вертов, а цель этого контрапункта. Надпись как способ метафоризации была определенным и явным признаком художественной (именно художественной) кинематографии эпохи. Напомню хотя бы о ставших знаменитыми эпизодах «Конца Санкт-Петербурга» Н. Зархи и В. Пудовкина, в которых такие надписи, как «воронежские, тамбовские, курские» и «путиловские, лебедевские, лесснеровские», служат не информацией о происхождении людей, фигурирующих на экране, а создают зрительно-словесную метафору всего народа России.
Подобные примеры можно бесконечно умножить, найдя их в фильмах Вертова и в фильмах нового художественного стиля, рожденного в советской кинематографии. В частности, у Вертова документальный, датированный, закрепленный за определенной «частной» реальностью монтажный кинокадр при помощи монтажа, а иногда и надписей становится метафорическим, а иногда и символическим.
Для того чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть «Симфонию Донбасса» или «Три песни о Ленине».
Вертов, который прозорливо писал о противоречиях между реальным временем и пространством и кинематографическим пространством и временем, использует это противоречие в своих фильмах» создавая из их столкновения единый образ.
Иногда критики эту особенность стиля Вертова видели. Так, Н. Абрамов цитирует удивительно прозорливую рецензию А. Февральского о «Шестой части мира»¹, в которой говорится, что в этой картине «разрушены традиционные рамки кинофильма путем введения в построение картины приемов других искусств — музыки и поэзии».
____________
¹ См. «Правду», 1926, 12 октября.
Но все это не помешало критикам и особенно историкам относить творчество Вертова, несмотря на все его своеобразие, только по «ведомству» документалистики и не избавило его от упреков в отступлении от принципов этой же документалистики в кино.
Между тем сейчас это уже ясно, Вертов стремился не к усовершенствованию хроники, а к созданию нового, небывалого искусства.
Чем же вызваны и противоречия в оценках и, нужно признать, известная непоследовательность художника?
Мне кажется, дело не только в том, что Вертова, как одновременно с ним и Эйзенштейна, поправило время.
Их поправило еще и искусство.
Я уже говорил, что для всякого рождающегося стиля характерно стремление к универсализации своих признаков, стремление к отказу в признании. Или к поглощению всего предшествующего развития.
И Эйзенштейн и Вертов преувеличили возможность своего искусства.
В поисках средств прямого воздействия искусства на жизнь, исповедуя формулу жизнестроения, Эйзенштейн, как ему казалось, нашел решение в построении киноязыка как нового способа человеческих коммуникаций, вне зависимости от эстетической функции. Отсюда «интеллектуальное кино».
Дзига Вертов искал тех же решений в использовании «киноглаза» и «радиоуха», в безграничные возможности которых он свято верил.
Не нужно подозревать их обоих в утопической наивности.
Эйзенштейн в своих построениях опирался на языковые структуры, в частности на иероглифику, и на идею стадиальности развития мышления.
Вертов считал, что «киноглаз» способен зафиксировать то, что не воспринимает человеческое зрение. Для него инструмент становился средством познания действительности. Вертов на практике как бы предварил последующую философскую дискуссию об объективной ценности показаний различных приборов — от микроскопа до синхрофазотрона, раскрывающих невидимые закономерности физического мира.
Но устремленные в будущее запросы к кинематографу и Эйзенштейном и Вертовым оказались невоплотимыми.
Причины этого чрезвычайно многообразны и сложны, и я не вправе говорить о них в статье, посвященной Вертову. Укажу только на то, что идея оказалась не вовсе бесплодной.
Конечно же, Вертову пришлось согласиться с тем, что возможности «киноглаза», как бы велики они ни были, могут быть реализованы только пользующимся этим инструментом человеком.
Но открытые Вертовым возможности инструмента остались. То, что казалось ему только средством к достижению цели, само по себе дало существенный результат. Вертов научился не только «снимать», но и организовывать и осмысливать в кинематографе «снятую» природу. Именно это обретенное в процессе поисков нового кинематографа умение и стало признаком нового, хотя и другого, кинематографа.
Так иногда бывает в науке. Я не боюсь тривиального примера — Колумб вычислил, что на своем корабле достигнет Индии. Это оказалось недостижимым, но американский континент был им открыт.
Так произошло и с Эйзенштейном и с Вертовым. Оба не достигли «своей Индии». Но оба «открыли Америку». Им удалось безгранично расширить возможности кинематографического искусства, создать, каждому в своей области, новый, отвечавший запросам времени стиль — стиль политической кинематографии, пропагандировавшей идеи социализма.
Мечта Вертова о непосредственном влиянии «киноглаза» на жизнь, об открытии новых явлений с помощью того же «киноглаза» осталась только мечтой. Но и того, что ему удалось сделать, достаточно, чтобы его работы остались не только в истории кинематографии, но и служили примером для настоящего и будущего.
Содержание
Иллюстрации. 3
М. БЛЕЙМАН. История одной мечты... 49
Е. ВЕРТОВА-СВИЛОВА. Память о Вертове.. 65
М. КАУФМАН. Поэт неигрового.. 70
A. ЛЕМБЕРГ. Дружба, испытанная десятилетиями . 79
B. ЛИСТОВ. Молодость мастера. 86
И. КОПАЛИН. Учитель, друг.104
Б. КУДИНОВ. Посвящение в киноразведчики..112
Я. ТОЛЧАН. С Вертовым было удивительно легко . 121
Б. ВОЛЧЕК. Режиссерское задание.125
Б. НЕБЫЛИЦКИЙ. Мы учились у Вертова...127
Э. ШУБ. Спор между учеником и учителем...133
A. ФЕВРАЛЬСКИЙ. Впередсмотрящий.135
B. ШКЛОВСКИЙ. О Дзиге Вертове ... 171
C. ЛИСИЦКАЯ-КОППЕРС. Сквозь даль минувших лет .. 183
С. ЕРМОЛИНСКИЙ. У памятника Пушкину...194
М. ДОНСКОЙ. И тогда и теперь ...204
Б. АГАПОВ. Новый человек на экране.207
А. ВЫСТОРОБЕЦ. Поразительное предвидение.208
Ю. КАРАВКИН. Лихов, 6 ..213
С. ПУМПЯНСКАЯ. Счастливый случай...225
Н. ЛОСЕВА. А если бы.. 227
Н. АРКИНА. Может ли такое устареть!...232
Л. БРАСЛАВСКИЙ. История одного журнала...234
Е. ДЕЙЧ. Незабываемое..237
Е. СЕГАЛ-МАРШАК. То, что сохранилось в памяти ... 244
Г. ФРАНК. «Рычаг» Вертова.261
СЕРГЕЙ ЮТКЕВИЧ. Первопроходец...265
Коротко об авторах... 274
Примеры страниц
Скачать издание в формате djvu (яндексдиск; 8,9 МБ).
Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу 42@tehne.com.
9 апреля 2018, 19:26
0 комментариев
|
Партнёры
|

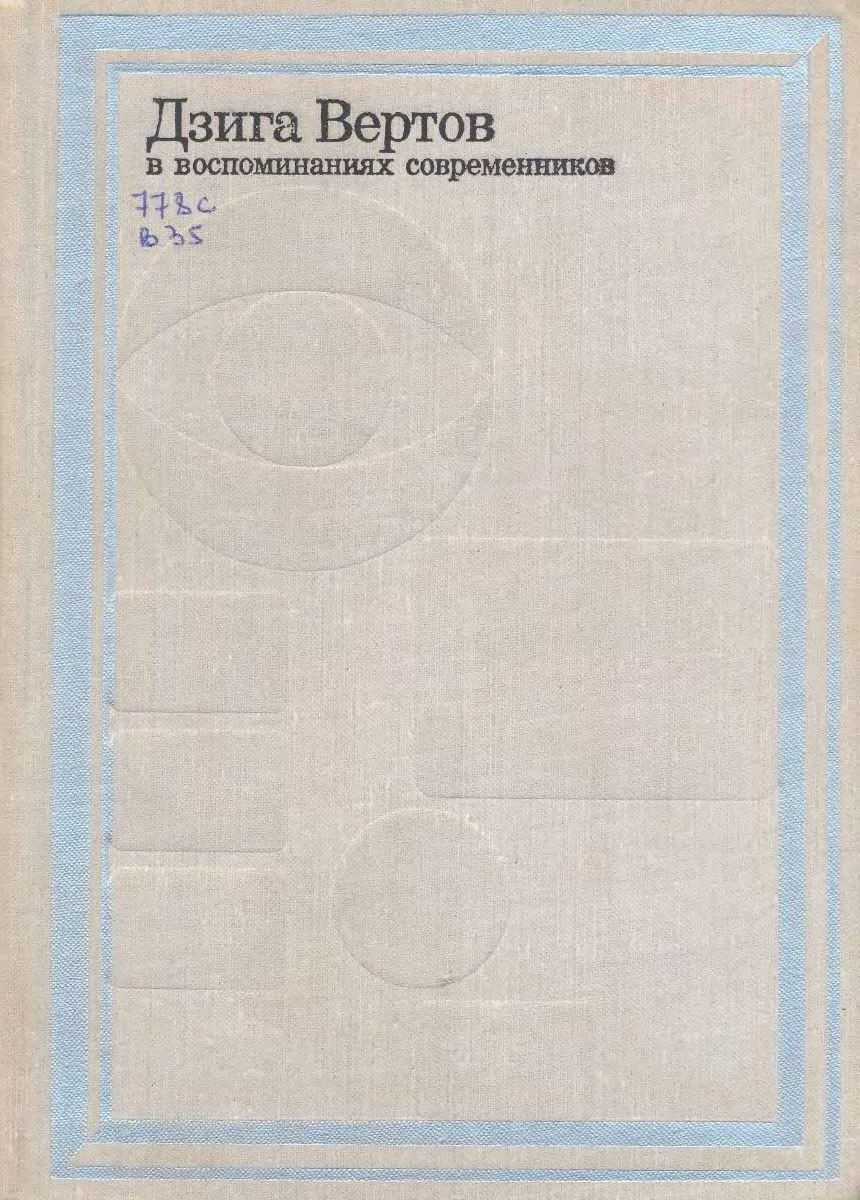
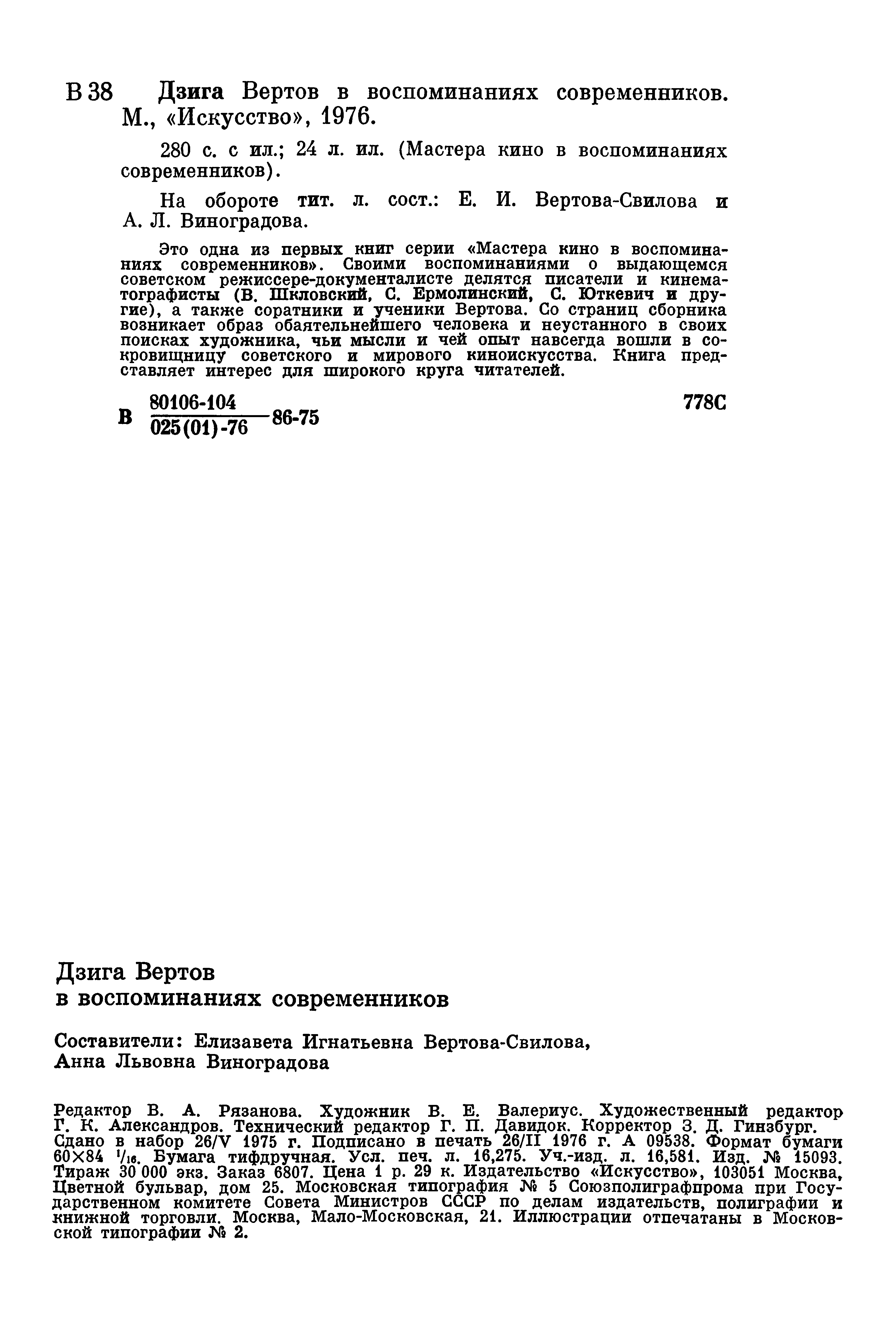
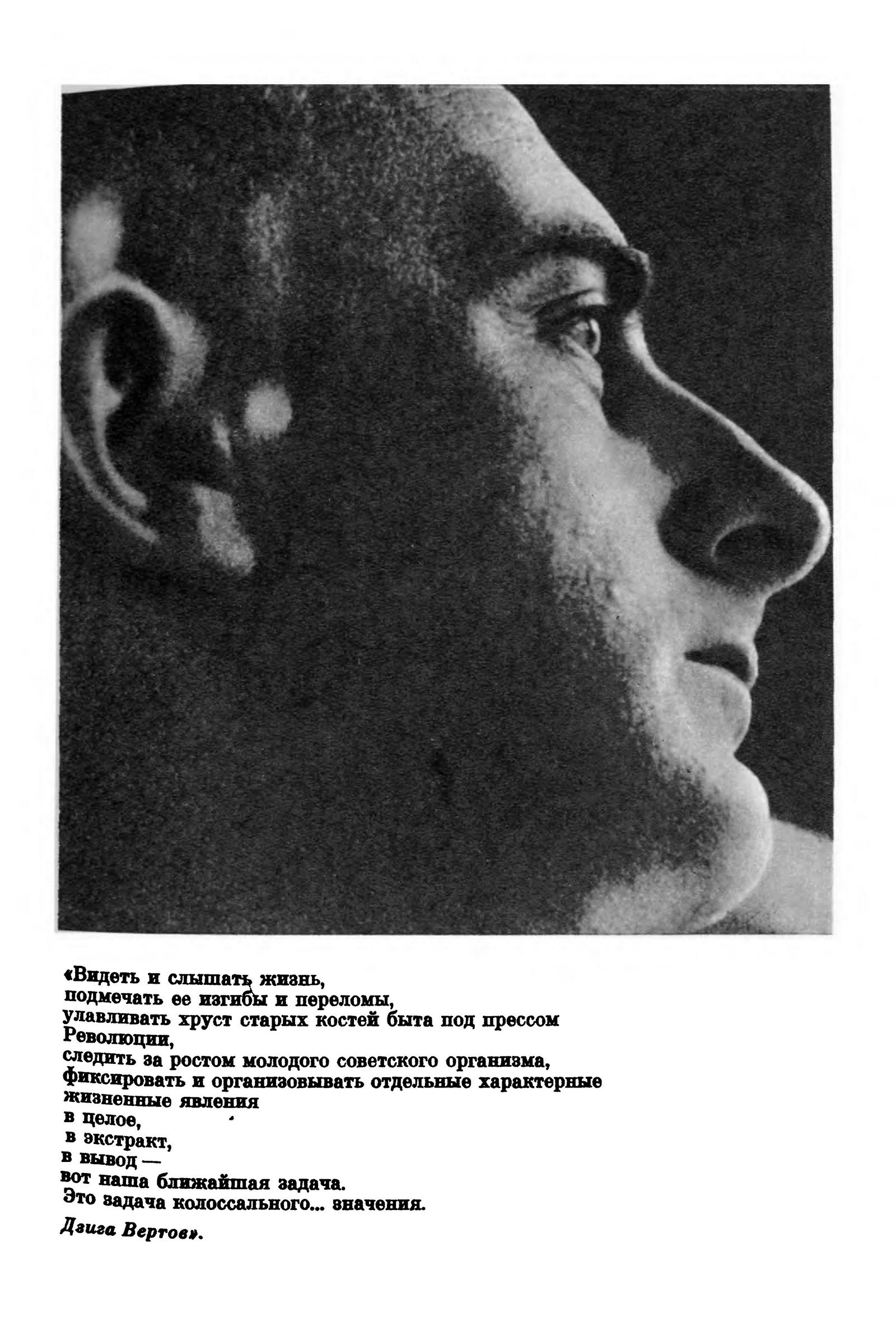
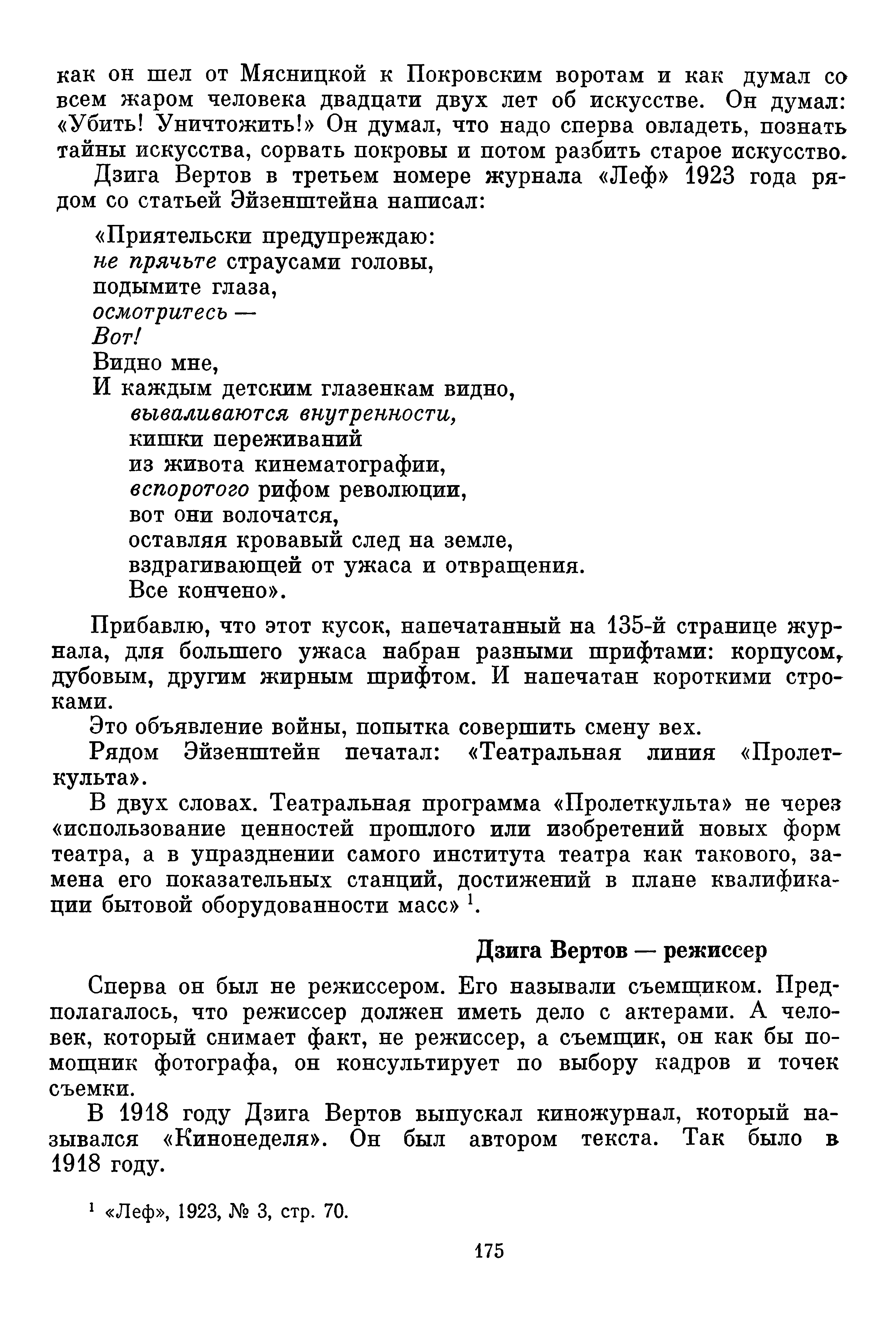





Комментарии
Добавить комментарий