|
|
Иконников А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность : В двух томах. — Москва, 2001—2002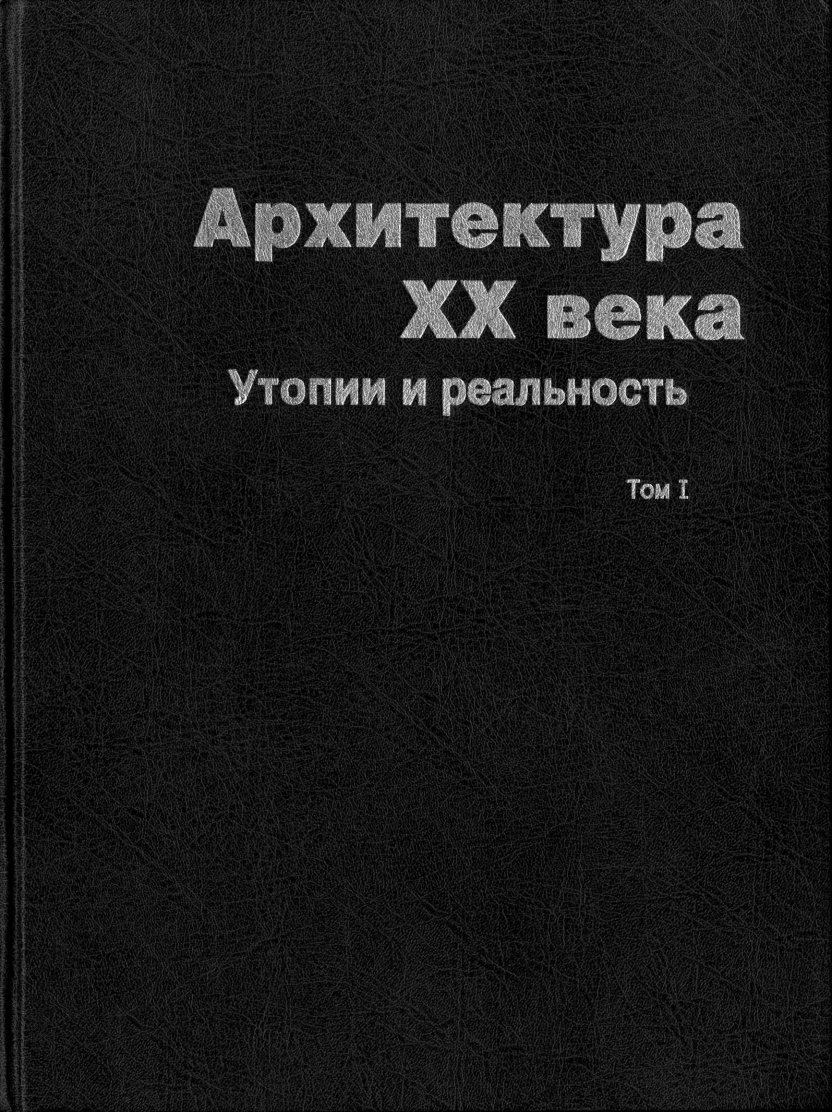 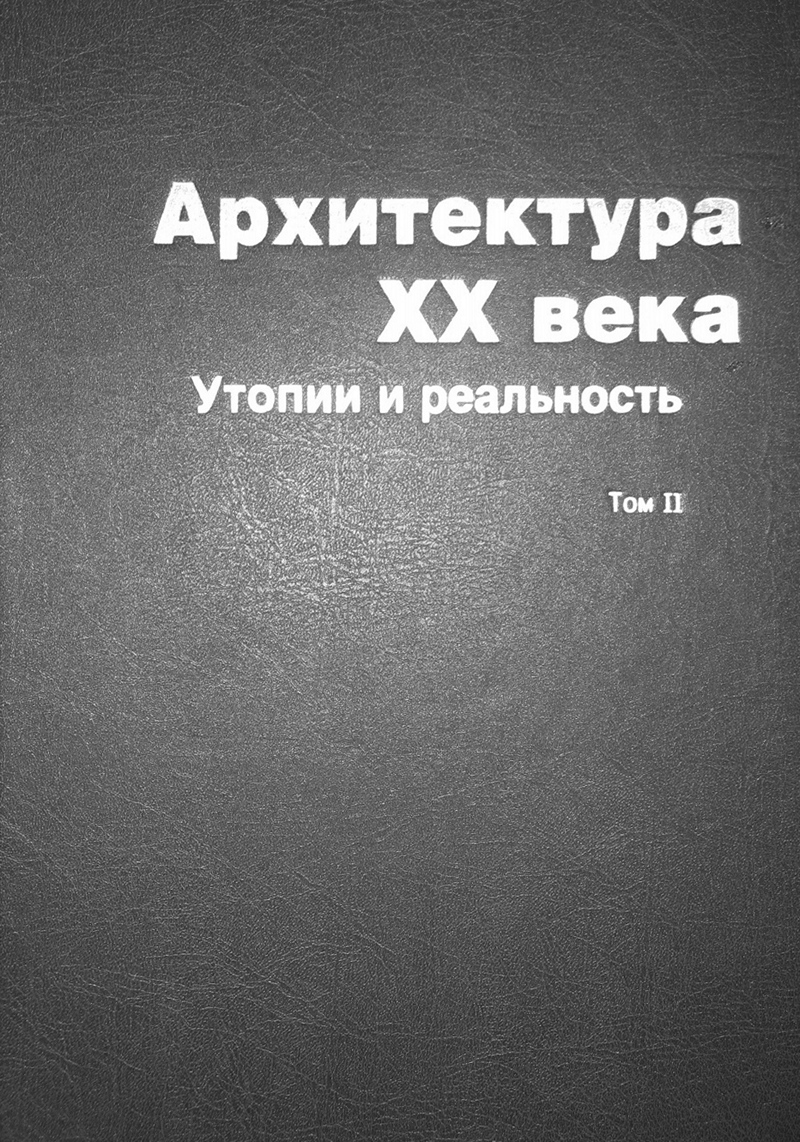 Архитектура XX века. Утопии и реальность : В двух томах / А. В. Иконников. — Москва : Прогресс-Традиция, 2001—2002.
В книге впервые в отечественной литературе выстроена общая картина мирового архитектурного процесса XX столетия; архитектура России в ее изменениях показана как часть системы меняющегося мира. Анализируются творческие концепции и направления, вытеснявшие в своем соперничестве представление о едином стиле времени, «стиле эпохи». Сопоставляются идеальные цели этих направлений, связанные с утопической мыслью, и реально достигнутые ими результаты. Архитектура рассмотрена во взаимодействии с культурой времени в ее зависимости от социальных процессов и исторических катаклизмов. Показан процесс становления «современного движения» в архитектуре в его связи с художественным авангардом и его отношения с традиционалистской архитектурой и историзмом. Рассказано о кризисе модернизма во второй половине века, о вытеснявших его постмодернизме и так называемом «стиле хай тек», деконструктивизме и поисках последних десятилетий века. Книга разделена на два тома. Первый посвящен развитию архитектуры до 1960 года, второй — последним десятилетиям века.
Том 1. — 2001. — 656 с., ил. — ISBN 5-89826-096-X Содержание I-го тома
Введение 7
Прогресс производства, массовое общество и архитектура 8
Идеология и утопия 9
Многообразие архитектуры XX века 12
Эволюция и революции в развитии архитектуры XX столетия 13
Форма и формообразование 14
Форма и ее значения 16
Архитектурная форма и промышленная технология 17
Архитектура и время 18
Историография архитектуры XX века 18
Истоки архитектуры XX века 23
Возникновение «архитектуры выбора» 26
«Архитектура выбора» во второй трети XIX века 30
Новая техника и архитектура второй половины XIX века 44
Архитектура выбора в последней трети XIX века 53
Поиски национальной специфичности 76
Американский протофункционализм XIX века 82
Возникновение эстетической утопии. Антиэклектизм 89
Архитектура и проблемы градостроительства 96
Социальные утопии и архитектура 102
Архитектура начала XX века и эстетические утопии 111
Ар нуво в Бельгии 114
Ар нуво во Франции 120
Ч. Р. Макинтош и школа Глазго 124
«Стиль Сецессиона» в Австро-Венгрии 126
Этический рационализм X. П. Берлаге 136
Югендштиль в Германии 138
Стиль модерн и неоклассицизм в России 145
Национальный романтизм и неоклассицизм в Финляндии и Швеции 163
Каталонский «модернисмо» 171
Антропософская архитектура 180
Архитектура экспрессионизма 182
Неопластицизм и объединение «Стиль» 190
Архитектурные утопии «машинного века» 199
Новый тип архитектурного пространства 200
Идеи «нового города» 203
Футуристская архитектура 205
Вальтер Гропиус и технократическая утопия 210
Ле Корбюзье и технократические утопии 214
«Новая вещественность», технократические утопии и Баухауз 229
Германский функционализм 240
Социальное строительство «красной Вены» 246
Архитектурный авангард Чехословакии 247
«Органическая архитектура» и регионализм 256
против ортодоксального функционализма 256
Архитектура и социальный эксперимент в России. 1917—1930 275
Архитектура и утопия 276
Начало социального эксперимента 278
Революционный романтизм «бумажной архитектуры» и архитектурные утопии авангарда 281
Возникновение конструктивизма 292
«Рационалисты» 296
Возрождение строительства в России 297
Конструктивизм в архитектуре — зрелая концепция 303
Жилище и организация быта в архитектуре 1920-х годов 306
Клубы и Дворцы культуры 318
Конец первой утопии советской архитектуры 327
Историзм в советской архитектуре второй половины 1920-х годов 330
Развитие городов и градостроительные утопии 336
Вторая волна неоклассицизма. Ар деко. Архитектура на службе власти 343
Железобетонный классицизм О. Перре и французская архитектура 1930-х годов 347
Неоклассицизм как символико-поэтическая система 353
Британский неоклассицизм 1930-х 356
Неоклассицизм в Британской империи 357
Стиль ар деко в Европе и Америке 359
Архитектура на службе власти: рационализм и неоклассицизм в Италии 367
Архитектура на службе власти: строительство в Третьем рейхе 386
Испанский вариант архитектуры власти 398
«Вторая утопия» советской архитектуры» 403
Архитектура власти в США 1930-х 435
Архитектура двухполюсного мира после второй мировой войны. 1945—1960 443
Послевоенное восстановление — символы и проблемы 445
Образование биполярного мира 456
Советская архитектура конца 1940-х 457
Система высотных зданий в Москве 460
Архитектура метрополитена в Москве и Ленинграде 467
Образы преодоления пространства в советской архитектуре конца 1940-х — начала 1950-х годов 470
«Идеальный город» ВСХВ в Москве 476
Архитектура жилых зданий и «вторая утопия» советской архитектуры конца 1940-х — начала 1950-х годов 478
Архитектура Восточной Европы в первом послевоенном десятилетии (1945—1955) 484
Послевоенный вариант «интернациональной архитектуры» 492
Стеклянные миражи «века Америки» — Мис ван дер Роэ и его стиль 499
Варианты «стиля Миса» 510
Американский неоклассицизм 1950-х годов 514
Историзм 1950-х годов в Италии 519
Гуманизация технократической утопии и послевоенное творчество Ле Корбюзье 526
Ле Корбюзье в Индии 539
Английский необрутализм 543
Необрутализм за пределами Британии 552
«Бригада X» против CIAM 557
Фрэнк Ллойд Райт — «одинокий герой» 559
Архитектура инженеров 571
Национальные школы в архитектуре 1950-х — Финляндия, Швеция 581
Распространение принципов «современного движения» в архитектуре Латинской Америки 599
«Современное движение» в архитектуре Японии 622
Традиционализм в развивающихся странах 634
Трансформация советской архитектуры в середине 1950-х годов 637
Введение
Членение времени на века условно. Исторический процесс не следует круглым датам. Но двадцатый век — век особый. За ним пришло новое тысячелетие. Когда близился тысячный год, мир западного христианства цепенел от пророчеств, предрекавших наступление Страшного суда или катастрофу, грозившую оборвать ход истории. Жизнь надолго замерла — сама круглая дата стала событием. Эсхатологические ожидания возникли и в середине XX века — в менталитет десятилетий холодной войны вошло ощущение края времени, грядущий рубеж тысячелетия из шаткого равновесия pax atomica виделся в зареве термоядерного Армагеддона. Отгораживаясь от подобных предвидений, футурологи 1960-х предлагали позитивные сценарии будущего; любимым сюжетом их бравого оптимизма стал «город 2000 года». Теперь наваждение отступило, и возникает соблазн обратиться к итогам и перспективам, которых могло и не быть.
Двадцатый век интересен и сам по себе, а история его архитектуры сложилась в драматичный сюжет, почти точно вписавшийся в календарные рамки. Архитектура второй половины XIX в. тяготеет к нему как пролог. Завязка главных сюжетных линий пришлась на годы до первой мировой войны. Динамичное развитие, драматизированное возникновением Советского Союза и его грандиозным социальным экспериментом, развернулось между двумя мировыми войнами. По окончании второй, за коротким временем всеобщей консолидации вокруг принципов рационалистической архитектуры, последовали годы кризиса, затронувшего обе стороны разделенного мира. На смену одряхлевшему модернизму в 1970-е пришел постмодернизм. Последнее десятилетие века воспринимается как эпилог. Напряженность двухполюсного мира угасла вместе с крушением социалистического эксперимента, снявшим противостояние общественных систем. В мире, утратившем четкую ориентированность, жестко заявленные концепции архитектуры, исчерпав себя, растворялись в спокойной элегантности нового эклектизма. Начался поиск сценариев развития для следующего исторического цикла, приходящегося уже на третье тысячелетие. Удовлетворяя как материальные, так и духовные потребности общества и человека, архитектура всегда основывалась на специфичной для художественной деятельности интеграции разнородных начал. Она должна объединять в своих произведениях результаты духовного и материального производства, чтобы овеществить идеальные представления общества о жизнеустройстве. Архитектура успешно делала это в европейской культуре до середины XIX столетия, когда прогресс производства породил рост количеств, с которым ей уже не удавалось успешно справляться. Машины, с их высокой производительностью, создавали продукты потребления и воспроизводили самих себя; материальное производство достигло небывалого роста. Успехи техники порождали все новые потребности. Рост, который сам себя стимулировал, привел к тому, что уже в XIX веке, в прологе к основному сюжету — XX веку, развитие техники вышло за пределы соразмерного человеку и доступного его обозрению.
Прогресс производства, массовое общество и архитектура
Рост количеств менял качество жизни, прогресс науки, техники, производства открывал для развитых стран возможность больше производить и больше строить, побуждая урбанизацию. Концентрация людских масс создавала массовое общество с его специфической ментальностью. В городах разрастались массивы искусственного и преобразованного трудом окружения. И если по отношению к естественной природе человек оставался свободен, то «вторая природа», созданная им самим, заставляла подчиняться заложенным в ее структуру программам поведения и деятельности.
Следствием технизации жизни стало утверждение рационалистического мышления, в котором анализ преобладал над синтезом, осязаемая объективность и практическая целесообразность стали универсальными критериями, ставящими под сомнение правомерность субъективного и иррационального. Разумность и четкое функционирование техники позволяли надеяться, что используемые ею методы управления могут обеспечить и эффективное функционирование общества. В повседневном труде, расчлененном на производственные операции и циклы, конечная цель становилась неосязаемой. Исполнитель отчуждался от завершающего результата, который наполняет творческой радостью труд ремесленника, создающего весь объект от начала до конца. Расчлененность труда отделила творческие моменты от рутинных операций, предоставив осуществление их разным людям.
Успехи техники стали основой веры в прогресс и его универсальность. Такая вера отдавала безусловное предпочтение новизне в противовес преемственности традиций. Прометеевский восторг провоцировал и обратную реакцию — ужас перед демонизируемой техникой, перед созданной самим человеком антигуманной силой, способной выйти из-под его контроля.
Но, как отмечал К. Ясперс, техника — лишь средство, «поэтому она двойственна. Поскольку техника не ставит перед собой целей, она находится по ту сторону добра и зла или предшествует им. Она может служить во благо или во зло людям»1.
Развитие архитектуры всегда было зависимо от возможностей техники, осуществлявшей ее замыслы. Но в XX веке и сами ее эстетические ценности во многом исходили из способов формообразования и совершенства исполнения техноморфной «второй природы». Техника стала и новым источником метафор архитектурной формы. Более того, влияя на мироощущение и видение мира, она стала продуцировать новые ценности и идеальные модели.
Массовое общество, ставшее реальностью благодаря прогрессу производства, формировало свой особый менталитет и свою культуру. X. Ортега-и-Гассет писал, что «головокружительный рост означает все новые толпы, которые с таким ускорением извергаются на поверхность истории, что не успевают пропитаться традиционной культурой»2. Неоднородность общества, определяемая различием принимаемых ценностей, стала причиной параллельного существования авангардного и тривиального искусства, различных слоев стратифицированной архитектуры. В последней стали выделяться, грубо говоря, три слоя: элитарный, традиционный и популистский, «кичевый».
В первом, отвечающем предпочтениям культурной элиты, возникают и испытываются новые идеи, активное отношение к жизни претворяется в эвристический поиск; в этом слое возникает взаимодействие с искусством — прежде всего, художественным авангардом. Второй слой обращен к массовому потребителю, овладевшему элементарными культурными навыками, и основывается на профессионально освоенных, устоявшихся нормах и ценностях. Этот слой питается идеями, наработанными в первом; здесь не рискуют, а комбинируют проверенное. Традицией, усваивающей проверенные новации, обеспечивается устойчивый уровень профессионализма. В первом слое деятельность устремлена к индивидуальному, необычному, иногда — шокирующему, во втором — к созданию целостных контекстов, отработке узнаваемых типов, совершенствованию стандартов. Развитие архитектуры основывается на взаимодействии этих слоев.
Третий, популистский слой ориентирован на людей, не освоивших утвердившиеся культурные нормы и связанные с ними представления о хорошем вкусе (изначально — первое поколение горожан, занесенное в города миграционными потоками, теперь, в особенности на территориях бывших социалистических стран, — новые богатые, отринувшие привычную среду с ее культурными навыками, но не выработавшие собственных). Работая в этом слое, архитектор как бы создает антураж для игры, в которой не участвует. Он обслуживает заказчика, ценностей которого не разделяет, но вынужден выполнять его требования.
Эстетические ценности в этом слое имитирует кич, преувеличенная зрелищность которого импонирует неразвитому восприятию. И наконец, существует количественно значительный слой, создаваемый на основе утилитарных комбинаций «обычного» в пределах несложных функций и простейших строительных приемов; архитектура как творчество в этом слое не требуется.
Параллельное бытование «высокой» и рутинной архитектуры было присуще и эпохам больших стилей прошлого. Тогда, однако, высокое и обыденное развивались в русле единой культуры и подчинялись общей шкале ценностей. В массовом обществе XX века такое единство распалось. Кич и «архитектура без архитектора» могут воспроизводить некие формы или знаки, бытующие в элитарном или традиционном слоях, но лишь в контексте значений и ценностей, специфичных для своей субкультуры.
Идеология и утопия
Государство и различные средоточия влияния — центры партий, политических и экономических структур — в современном массовом обществе остро нуждаются в средствах объединения людей и руководства ими, базирующихся не на подчинении, но на убеждении. В статичном средневековом мире подобную роль играли представления, истинность которых гарантировала церковь. Рационалистические представления, которыми в Новое время были вытеснены религиозные, неполны, противоречивы и в чем-то сомнительны. Создание идеологий, интерпретаций мира, которые могли бы объединять и направлять, внушая массам желания и потребности, стало особой задачей.
Идеология, по определению энциклопедии советского времени, — «система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся программы социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение данных общественных отношений3. Но идеология не просто «систематизирует» — она пристрастно защищает и пропагандирует некую позицию. Немецкий философ К. Манхейм в классическом труде «Идеология и утопия» заметил: «В слове „идеология” имплицитно содержится понимание того, что в определенных ситуациях коллективное бессознательное определенных групп скрывает действительное состояние общества как от себя, так и от других и тем самым стабилизирует его»4.
При этом официальная идеология, принятая группами, управляющими государством, только в условиях тоталитарных систем существует вне конкуренции с идеологиями других групп. Все пользуются оружием взаимного разоблачения. И все ищут подтверждений своей правоты, обращаясь к социальной мифологии. В это соревнование, как правило, вовлекалась и архитектура, которая создавала пространственные декорации, отвечающие содержанию мифологем и как бы подтверждающие их своей вещественностью.
В прошлом представления о мире, принятые архитектором, формировали его менталитет, влияли на метод творчества и образные метафоры. Теперь стала мыслима архитектура, форма которой предопределена идеологической конструкцией, должна служить утверждению заданных идей и, тем самым, — стабилизации некоего порядка. Наиболее впечатляющие образцы идеологизированной архитектуры создавались в первой половине XX в. — в России сталинистского периода, в муссолиниевской Италии и в официальной архитектуре США.
Пристрастность, направленная противоположно той, что присуща идеологии, характеризует утопическое мышление. Его поддерживают группы, которые «духовно столь заинтересованы в уничтожении и преобразовании существующего общества, что невольно видят только те элементы ситуации, которые направлены на его отрицание... Их ни в коей степени не интересует то, что реально существует, они лишь пытаются мысленно предвосхитить изменение существующей ситуации. Их мышление никогда не бывает направлено на диагноз ситуации; оно может служить только руководством к действию»5.
Вторжение утопии в реальность — специфический феномен XX столетия. Ранее утопия выступала как синоним отвлеченной мечты, как идеальная модель, искусственно сконструированная воображением, игнорирующим реалии исторической ситуации, альтернатива сущему, основанная лишь на «хотении и волении» (такое значение термин «утопия» и поныне сохраняет в обыденном словоупотреблении). Но Н. Бердяев отметил, что в нашем столетии «утопии оказались более осуществимы, чем казалось раньше. И теперь стоит другой вопрос — как избежать их окончательного осуществления»6.
Трагический парадокс века в том, что попытки достичь высшего блага порождали ненамеренные и непредвиденные последствия, разрушительное воздействие которых иногда разрасталось до катастроф планетарного масштаба. Утопия становилась опасной, когда в ней видели модель насильственного революционного переустройства общественных структур и экономики общества. Но в локальных пределах художественного эксперимента (например, архитектурной фантазии) опасность не ощущалась. Утопическая мысль действовала как раздражающий стимулятор, побуждая выйти за пределы привычных стереотипов. Последнее казалось подтверждением ее конструктивности.
В основе утопических моделей общества, начиная от архетипа, предложенного Платоном в виде размышлений об устройстве легендарной Атлантиды7, до утопий середины XX столетия, лежит идея рационального всепроницающего порядка, служащего обществу в целом за счет блага индивидуального и личного. Жесткая обезличенность усугублялась стремлением к чистоте идеала. Исключались любые варианты. Видение мира сводилось к противостоянию полярных начал.
Утопический идеал принимался как цель, оправдывающая любые средства. Своими бескомпромиссными устремлениями утопическое сознание готовило интеллектуальную почву для тоталитаризма и его идеологии.
Гипертрофия утопической мысли, устремленной к осуществлению произвольно сконструированных идеалов, роковая для исторических судеб XX века, вовлекла в свой водоворот и архитектуру. Увлеченные идеалами социальных утопий, архитекторы стали выступать с претензиями на устроение жизни.
Проекции утопической мысли на архитектурную деятельность дали первый реальный результат на рубеже XIX и XX веков, когда эстетическая утопия, основанная на идее преобразования мира красотой («мир красотой спасется»), стала началом интернационального «стиля модерн». В 1920-е годы архитектурный авангард, побуждаемый волной революций, развернувшихся под лозунгами социальной утопии (и прежде всего — гигантским утопическим экспериментом России), сумел дать яркий импульс рационалистическому направлению в архитектуре. Русский авангард основывал свои жизнестроительные принципы на уравнительной утопии военного коммунизма; социал-демократические и неотомистские утопические идеи питали прогрессизм западноевропейского авангарда.
В 1930-е годы архитектурный утопизм в условиях устанавливавшихся тоталитарных режимов отбросил прогрессистские установки авангарда. Используя мифологемы «вневременных ценностей», «будущего, равного вечности», соединяющего в себе все достижения человечества, утопизм обратился к историзму («вечная классика» монументальных версий «величия нации» или «почвенные» национальные традиции для обыденных задач).
Возвращение к идеалам уравнительной утопии в Советском Союзе постсталинистского периода было глубинным содержанием хрущевской архитектуры технологизма с ее абсурдными крайностями типизации и стандартизации (программно обезличенные «хрущобы»). «Малые утопии», следовавшие идеям социал-реформизма или основанные на гипотезах особой роли определенных территориально-общественных структур («соседства»), функций (обмен информацией, досуг), принимались как основание некоторых профессиональных идей западноевропейских и американских архитекторов пятидесятых годов.
Среди созданного с ориентацией на утопию многое трудно приспосабливалось к реальным ситуациям, что-то оказывалось вообще непригодным (как российские дома-коммуны 1920-х или американские социальные жилища 1950-х, типа знаменитого Проут-Айгоу в Сент-Луисе).
Утопическое сознание провоцировало архитектурную профессию на противостояние обществу, что подрывало доверие к ней.
Последняя четверть XX века стала временем, когда притягательность утопических идеалов начала исчезать. Решающий удар утопизму нанесло крушение социалистического эксперимента в России. Архитектурная утопия XX века умерла, оставив после себя лишь чуждые социальных амбиций архитектурные фантазии. Осталось, однако, и пятно соучастия профессии в попытках построения эстетизированного всепроницающего порядка тоталитарных государств.
Многообразие архитектуры XX века
Череда великих стилей архитектуры оборвалась на классицизме — более уже не складывались системы, которые могли бы претендовать на роль «стиля эпохи». Не стиль, а множественность путей развития относится к главным характеристикам архитектуры XX века.
Сложность панорамы увеличивалась тем, что в активное формирование идей и направлений архитектуры включался все более широкий круг стран и народов. А. Тойнби отметил: «Перед войной 1914—1918 годов Европа, вне всякого сомнения, пользовалась господствующим влиянием в мире, и та особая модель цивилизации, которая сложилась в Западной Европе за последнюю тысячу двести лет, казалось, будет преобладать повсеместно»8. Из восьми великих держав пять располагались в Западной и Центральной Европе (Великобритания, Франция, Германия, Австро-Венгрия и Италия). Российская империя была государством евразийским. Не принадлежавшие к Европе США и Япония до 1914 года оставались на периферии мировой политики.
В сфере архитектуры в начале XX века также правомерно было говорить о преобладании европейских стран, сплоченных на основе античной и ренессансной культурных традиций. Франция в середине XIX столетия стала главной законодательницей в профессиональной культуре. В конце века к ней присоединяются Британия, Германия, Бельгия, Австро-Венгрия; в архитектуре США началась генерация оригинальных идей, перебрасывающихся уже в начале XX в. на европейский континент.
В годы после первой мировой войны эксперименты российского авангарда вывели в число лидеров Советский Союз. Яркую роль сыграла архитектура Нидерландов. Началось развитие архитектурных школ Италии, скандинавских стран, Финляндии. Расширение круга стран, генерирующих идеи в архитектуре, ускорилось после второй мировой войны.
В первом послевоенном десятилетии процесс этот отступил перед культурной экспансией США, опиравшихся на свою экономическую мощь, возросшую за военные годы. Однако к концу периода программно заявила о своей самостоятельности архитектура Финляндии, началось становление самобытной архитектуры Японии, вошедшей позднее в число безусловных лидеров; возникли сильные архитектурные школы в Латинской Америке (Бразилия, Мексика, Венесуэла, несколько позже — Чили, Аргентина, Куба).
Далее стал раскрываться в архитектуре культурный потенциал Индии. Сложились сильные архитектурные школы Австралии и Канады. Установка на культурную самобытность архитектуры получила развитие в странах Ближнего Востока. Наконец, вместе с активизацией экономики стали выходить на первый план в панораме мирового зодчества «молодые тигры» юго-восточной Азии — Гонконг, Сингапур, Малайзия, Южная Корея. В конце столетия стало обретать своеобразие и выразительность многое в огромных объемах строительства, которое ведет Китай.
Увеличение числа стран, вносящих свой вклад в развитие архитектуры, не было лишь количественным явлением. В глобальный процесс вовлекались страны с самобытной национальной культурой, давними традициями архитектурного творчества. Информационный обмен приводил к тому, что включение новых членов в клуб активных новаторов обогащало фонд идей мировой архитектуры столетия, увеличивало ее многомерную сложность.
Сложность системы увеличивало и драматичное подчас противостояние глобалистских тенденций и стремления к самоутверждению национальных культур. Универсальность научно-технической мысли и производственных стандартов, развитие глобальных информационных сетей, доступность прямого контакта с чужими культурами служили межнациональному распространению ценностей. Но гранью культуры века стало стремление наций к самоидентификации. Под его влиянием старались обозначить и подчеркнуть «особое», характерное для данной нации, а в межнациональных тенденциях искали те версии, которые отвечают конкретности ее бытия и менталитету.
Эволюция и революции в развитии архитектуры XX столетия
В истории архитектуры, как и в любых исторических процессах, связная и предсказуемая последовательность изменений периодически уступает место качественному скачку, разрывающему постепенность. Эти две стороны процесса, попеременно сменяющие одна другую в единстве развития, Ю. Лотман охарактеризовал как моменты взрыва и постепенности9.
Особенность XX столетия в том, что линейная последовательность их чередования уже не определяла исторический процесс. Развитие, начатое вспышкой революционных изменений, еще продолжалось, не исчерпав потенциала новации, когда возникала следующая вспышка. Заданное ею направление могло долго сосуществовать с возникшим ранее. Многочисленность таких хронологических наложений определяла сложность общей картины (так, распространение «стиля модерн» после «взрыва» на рубеже XIX и XX столетий наложилось на постепенность развития эклектизма; последнее продолжалось и после взрывного образования рационалистических направлений; в последней четверти века хронологически совмещались ортодоксальный функционализм, неофункционализм, постмодернизм, «хай-тек», деконструктивизм, традиционализм, неоклассицизм). Совмещению во времени явлений, возникновение которых хронологически было разделено, способствовали расслоение архитектуры массового общества и несинхронность развития национальных культур. Сложность процесса дополнялась и его «искривлениями» под давлением идеологии или утопических концепций.
В XX веке плюрализм, допускающий одновременное существование в системе одной культуры различных художественных направлений, пришел на смену чередованию больших стилей. Последний из них — классицизм — уступил место программному многостилью эклектики.
Сам термин «стиль», служащий инструментом классификации исторического материала, в применении к архитектуре XX века получил некую амбивалентность (более корректно говорить о динамичных творческих направлениях, не застывающих в качественной завершенности). Подвижность направлений подчеркивается сменой эстетических предпочтений, подобно моде получающих международное распространение. Накладываясь на мозаику направлений, они придают им особую окраску, иногда выявляющую неожиданные аналогии.
Примером такого рода может сложить дихотомия «простое—сложное». В искусстве начала века укреплялось убеждение, что простота — это образ истинного. Усвоенное архитектурой 1920-х годов, оно получало воплощение как в лапидарной геометрии композиций авангарда, так и в направлениях, связанных с историзмом, где приемы классики приводились к ясности ортогональных схем и сочетаниям элементарных геометрических фигур. Тяга к простоте была доведена до абсолюта в архитектуре 1950-х (максима Л. Мис ван дер Роэ: «Меньше есть больше»). Маятник предпочтений, достигший предельного положения, покатился затем в противоположном направлении (контрмаксима Р. Вентури: «Меньше не есть больше»), побуждая к поискам сложности, иногда самоценной. К 1990-м годам маятник прошел полную амплитуду, и вновь покатился к минимализму («меньше есть больше?»). Если же из плоскости качества формы перейти в плоскость культурных значений, мы увидим движения предпочтений между прогрессизмом и историзмом, самоценностью новизны и уважением к традиции.
Мы рассмотрели ряд обстоятельств, внешних по отношению к собственно архитектуре, формирующих деятельность профессии как бы извне. Обратимся теперь к наиболее общим результатам внутреннего развития профессиональной деятельности. Начнем с проблемы формы (именно владение ее языковой реальностью выделяет архитекторов среди других профессий).
Форма и формообразование
По направленности и решительности качественных изменений в архитектурном формообразовании XX век сравним со временем римской архитектурной революции I в. н. э., создавшей классическую традицию европейского зодчества. Тогда на основе греческого храма с его иерархической структурой и элементами, форма которых была индивидуальна и зависела от места в структуре, римляне создали систему ордеров, ставшую универсальным упорядочивающим началом архитектурной композиции. Объектом последней оставалось здание — завершенный в себе самодостаточный объект.
В XX веке объектом композиции становится контекст среды — целостной в своей упорядоченности, но открытой к развитию системы. Утратили безусловность критерии, основанные на классическом принципе завершенности произведения («ни прибавить, ни убавить», — как говорил И. Жолтовский). Индивидуальность целого, идентификация такой системы основаны в большей мере на характере связей между элементами, чем на особенностях формы элементов. Возможность использования при этом форм универсальных, стандартных, заложенная уже в системе римских архитектурных ордеров, получила новое развитие, открывая путь к вовлечению в архитектуру-искусство методов промышленного производства.
Римляне скульптурности архитектуры греков противопоставили принцип позитивного пространства — объемлющей человека организованной пустоты, которая воспринималась как символически активная форма (Пантеон, здания терм). XX век возвысил этот принцип до концепции формообразования («Пространство, а не камень — материал архитектуры»10, — писал Н. Ладовский). В первой половине столетия на основе этой концепции пытались создать универсальную теорию архитектуры (Ф.-Л. Райт); ее связывали с теорией пространства-времени Эйнштейна-Минковского (3. Гидион), рассматривали в художественно-символическом (Л. Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье) и функциональном (В. Гропиус) аспектах, претворяя идеи в практические эксперименты. Увлекаясь пространственностью, сводили к минимуму материальные составляющие формы или заменяли их визуально неощутимыми прозрачными экранами (Мис ван дер Роэ). К 1960-м развитие тенденции достигло грани абсурда в концепции «иной архитектуры» Б. Фуллера, отвергавшего саму необходимость архитектурной формы, и в рассуждениях об «идеальной архитектуре» как пространстве, формируемом невидимыми силовыми полями.
Но еще в конце первой половины столетия пространственности были противопоставлены новые эксперименты с пластическими свойствами формы, подчеркивающими ее вещественность (поздний Ле Корбюзье с его «грубым бетоном», бруталисты, затем Л. Кан и японские метаболисты). 1970-е годы стали временем, когда начала восстанавливаться диалектика пространства и массы. Концепция «пространства-времени», соединенная со средовым подходом стала основой индивидуальных решений, получивших невиданное ранее разнообразие, произрастающее из соединения активной пластичности вещественного и развернутой в четырех измерениях последовательности пространств.
Реализация новых методов организации пространства, вместе с распространением конструктивных структур, которые не укладываются в классические представления о тектонике, привели в XX в. к уникальной ситуации. Наряду с направлениями, продолжающими культуру восходящей к античности классической формы, впервые возникли нетрадиционные направления, обратившиеся к изначальным основам формотворчества («авангард»). Как и неоклассические, они претендовали на универсальность, опираясь на безусловную веру в прогресс и самоценность новизны.
Часть этих направлений прокламировала рациональное осмысление объективных факторов (конструкции, функции) как основы формотворчества. Другая часть их отдавала первенствующую роль закономерностям психологии восприятия. Те и другие в работе над формой использовали опыт художественного авангарда, причем первые тяготели к версиям рассудочного посткубизма (супрематизм, неопластицизм, пуризм), вторые — к экспрессионизму и сюрреализму. Одни стремились к чистоте картезианской геометрии, другие — к импульсивной иррациональности подобий органической формы.
Активное соприкосновение с экспериментами других пространственных искусств сохраняли и направления «поставангардной» архитектуры, на методы формообразования которых влияли такие художественные направления, как «бедное искусство», поп-арт, оп-арт. Взаимодействие искусств, игравшее в становлении зодчества XX века не менее значительную роль, чем в становлении архитектуры Ренессанса или барокко, не сохранило, однако, эту роль на протяжении всего столетия. К концу его в программных декларациях и художественной практике неоавангарда стала настойчиво оспариваться эстетическая природа искусства. Эстетическая конструктивность — главное связующее звено между архитектурой и другими искусствами — стала игнорироваться последними. Концептуальное искусство, претендуя на формирование среды своими значениями, делает это средствами, которые выходят за пределы природы архитектуры.
В плюралистической картине направлений первых трех четвертей XX столетия неоклассические и авангардистские методы формообразования развивались параллельно. И те и другие заявляли претензии на единственность собственной истины. В последней четверти столетия постмодернизм наметил еще один путь — их объединение, обратившись к проблеме значения формы.
В последней четверти века на развитие формальных языков архитектуры стала оказывать все возрастающее влияние компьютеризация проектирования. Она не только эффективно обеспечивала рутинные процессы, но и создала возможности творческого поиска, для традиционного проектирования немыслимые. Многовариантное моделирование пространственных структур уже в 1980-е годы открыло путь к увеличению сложности систем архитектурного пространства, имеющей целью не столько повышение их практической целесообразности, сколько создание драматических эффектов, воздействующих на восприятие. Возникла и новая форма проектного эксперимента, проводимого в создаваемой компьютером виртуальной реальности. Она позволяет имитировать взаимодействие проектируемой структуры с ее жизненным наполнением и восприятие как уже функционирующей среды.
Форма и ее значения
Волны новых значений, порожденных культурой XIX века, не укладывались в системы знаков и метафор архитектурных форм классицизма. Язык архитектуры перерождался в набор семантически нейтральной орнаментики. Эклектизм родился из попыток вернуть архитектурной форме значимость за счет манипулирования ассоциациями, литературными по своей сути, которые связывались с формами различных исторических стилей. Как неоклассические ветви архитектурного формообразования XX века, так и архитектура авангарда сложились и развивались поначалу в полемике с эклектизмом. Неоклассика, восстанавливая стилистическую целостность формальных систем, обращалась к аргументам эстетическим, авангард — к аргументам этическим («правдивость выражения»).
Авангард консолидировался на основе принципа, извлеченного Л. Салливеном из эволюционистской теории, — «форму определяет функция». Ее позитивистские и материалистские истолкования стали основанием утилитаристских концепций архитектуры, в которых эстетическая ценность принималась как нечто производное от «пользы»: значение формы ограничено практической ориентацией в конкретных обстоятельствах. Апофеозом этой линии, намеченной В. Гропиусом и продолженной функционализмом, стало нашествие на Россию «пятиэтажек» технологизма хрущевского времени.
Другие линии авангарда трансформировали «объективно обоснованную» формулу метафоры современности, используя художественный опыт посткубизма. Их темами становились идеальные образы социального равенства (братья Веснины, И. Леонидов), рациональной технократии (Ле Корбюзье) или неотомистской гармонии космоса (Л. Мис ван дер Роэ). Средства авангардного искусства использовались и для приближения языка форм неоклассики к восприятию людей XX века (П. Беренс, А. Лоос, И. Голосов, Ив. Фомин, М. Пьячентини).
В своих лучших достижениях архитектура 1910—1960-х годов предлагала впечатляющие метафоры. Достижения, однако, были индивидуальны и элитарны — их восприятие требовало знания многих культурных кодов и эрудиции, охватывающей разнообразные источники ассоциаций. На ткань массовой застройки они не распространялись. Единый общепринятый язык, где четко связаны знаки и значения, не складывался. Рациональное начало формообразования и иррационализм художественных метафор трудно приводились к непротиворечивым сочетаниям.
Стремление создать «говорящую архитектуру» во многом определило основные тенденции последней четверти века. Отвергая псевдорациональную логику модернизма, Р. Вентури предложил создать произведения, отражающие сложность и противоречия реальности11. Его идея структурного разделения функционально-конструктивной основы и формы, несущей значения (еще одна аналогия с римской архитектурной революцией), использована постмодернизмом, не приемлющим противопоставление формальных языков классики и авангарда. Возвращение к «радикальной эклектике» как архитектуре, служащей языковой коммуникацией, позволило создать ряд произведений, отмеченных яркостью метафор (Дж. Стерлинг, X. Холляйн, А. Росси, П. Портогези и др.). Двойное кодирование формы, обращенное к различным социальным группам, расширило сферу культурного влияния элитарной архитектуры (Р. Вентури, Ч. Мур), но создание ее универсального языка осталось не достигнутой (и, быть может, недостижимой) задачей.
Архитектурная форма и промышленная технология
При всем великолепии большепролетных и высотных конструкций, созданных инженерами XX века (Э. Фрейссине, П. Л. Нерви, М. Новицкий, Ф. Отто, К. Ваксман, Фазлур-Хан, С. Калатрава, И. Шухов, Н. Никитин и др.), наиболее глубокие качественные изменения внесло в архитектурное формообразование вторжение в строительную технику индустриальных технологий. Предвестием был «Кристал-Палас» в Лондоне (1851) со сборным металлическим каркасом, заполненным стеклянными панелями. Стало ясно, что архитектура стоит перед выбором — пассивное «освоение» индустриального в имитации традиционных форм и мертвой арифметике сумм механически соединенных стандартных элементов или поиск принципиально новых отношений между техникой и архитектурным формообразованием.
Попытки конструктивизма и функционализма использовать тектонику металлических и железобетонных конструкций для построения системы значащих форм были скованы стремлением не отступать от утилитарности. Персональный стиль, в котором совершенство техники, интерпретированное в понятиях эстетики неопластицизма, стало основой философских метафор, создал Л. Мис ван дер Роэ. Видимая простота (при внутренней сложности, которой пренебрегали) побуждала тиражировать «стиль Миса», выхолащивая его утонченную элитарную символику.
На гребне поисков «говорящей архитектуры» в конце 1970-х сложилось направление «хай-тек», которое использовало приемы формообразования, характерные для техномира, освобождая их от изначального смысла и утилитарности. Визуальные признаки технического использовались для ироничных метафор, несущих «человеческое» содержание. Положившее начало этому направлению здание Центра искусств имени Ж. Помпиду в Париже, фасады которого как бы вывернуты наизнанку, демонстрируя обычно скрываемые в стене и за стеной системы инженерного оборудования, парадоксально демифологизировало элитарную функцию. Технотронная среда «хай-тек» могла принимать и характер романтичный, таинственно-магический (работы Г. Пайхла). В постройках И. Фостера и Э. Роджерса конца 1980-х ею сформированы романтичные образы, впечатляющие пиранезианским гигантизмом. В малом масштабе «хай-тек» показал возможность формировать подобие игровой среды — неких параллелей «электронным сказкам» Станислава Лема.
В футурологических пророчествах середины столетия наиболее общим признаком городов будущего виделся гигантизм, направленный на окончательное торжество антропогенной «второй природы». Исследования «Римского клуба», помогая осознать, что разрушение экологического равновесия планеты было бы самоубийственно для человечества, побудили становление другого взгляда на будущее. Мечты о гигантском порождались инерцией «палеотехнического» времени. Символом техники постиндустриального периода стали микроскопические «чипы» и компактные структуры высоких технологий, позволяющие экономить пространство, материю и энергию и обеспечивать при этом гибкость производства, не требующего гигантских тиражей и не навязывающего монотонность унифицированной среды.
Архитектура и время
Девятнадцатый век оставил нашему столетию идею прогресса, с восторгом принятую архитектурным авангардом. Порождением ее стало представление о самоценности новизны. Отвергая связь с традицией и глубиной исторического времени, авангард сосредоточился на временной развертке современности в концепции системы архитектурного пространства, воспринимаемого в движении и времени.
Историзм, однако, завоевывал все новые позиции в менталитете столетия. В его начале неясность перспектив будущего вызвала реанимацию мифов «золотого века» в ретроспективности неоклассицизма, первая волна которого достигла апогея в начале 1910-х годов.
В России она оставила развитую систему стиля — обрамление «серебряного века». Вторая волна неоклассицизма поднялась в архитектуре 1920—1930-х годов как выражение стремления набиравших мощь государственных режимов, не только тоталитарных, но и демократических, к универсальному порядку, стабильность которого подкреплена традицией.
Трагедии мировых войн и угроза ядерного апокалипсиса способствовали осознанию во второй половине века конечности «вечных» ценностей культуры. Умерла идея прогресса. Традиционализм и историзм укрепили свое влияние. Они вошли составной частью в концепции средового подхода и архитектуры постмодернизма, побуждая воспроизводить не только «знаки» архитектуры прошлого, но и стилистическую многосложность формы складывавшихся постепенно комплексов застройки. Возникло конкретное ощущение непрерывности развития городской ткани и стремление включиться в эту непрерывность, продолжить ее.
Как и предшествовавший, век двадцатый завершился в тревожном ощущении непредставимости будущего, отсутствия надежных перспектив, что порождает ностальгию по прошлому. Сохраняются тем самым и предпосылки новых возвратов к ретроспективности.
Историография архитектуры XX века
Век лишь подошел к завершающей дате, но уже сложился огромный корпус исследований, посвященных истории его архитектуры. В 1927 г. в Берлине Г. А. Платц опубликовал первый обобщающий обзор — массивный том, в котором собран внушительный объем еще не очень систематизированного и осмысленного материала. Труд Платца долго оставался единственной попыткой создать общую картину архитектуры времени. В архитектуроведении наметился некий водораздел. Собственно история архитектуры ограничила свои интересы верхним хронологическим рубежом, совпавшим с началом второй трети XIX века. В происходившем позже интерес вызывало лишь то, что казалось прямо связанным с генеалогией «современного движения». Все остальное наследие близкого прошлого попадало в поле психологического отторжения, исключавшего беспристрастную оценку.
В. Гропиус положил начало новому жанру историко-теоретических анализов, пристрастно поддерживавших концепции «современного движения». Он начал серию изданий Баухауза своей книгой-альбомом «Интернациональная архитектура», претендуя на широкую панораму архитектурного авангарда (1925). Тему продолжили Л. Хильберзаймер («Новая интернациональная архитектура», Штуттгарт, 1927) и Б. Таут («Новая архитектура Европы и Америки», Лондон, 1930), которые уже создали и развернутые историко-теоретические тексты. В последних преобладали теоретический анализ и программные утверждения, что было естественно, учитывая малую глубину исторического времени, связывавшегося с темой. Более строго анализ «современного движения» подчинен логике исторического исследования в книге X. Р. Хичкока и Ф. Джонсона («Интернациональный стиль. Архитектура с 1922», Нью-Йорк, 1932). Австриец Э. Кауфман в книге «От Леду до Ле Корбюзье» (Вена, 1932) поставил казавшийся тогда парадоксальным вопрос об исторических корнях «современного движения». Англичанин Дж. М. Ричардс выстроил схему последовательности его развития, которая на какое-то время стала канонической («Введение в современную архитектуру», Лондон, 1932).
Завершением раннего периода историографии архитектуры XX века, в котором преобладали исследования творческих концепций, стал изданный в США (Кембридж, Масс., 1940) фундаментальный труд швейцарца 3. Гидиона «Пространство, время, архитектура», достойный книги рекордов Гиннеса как архитектурная монография, выдержавшая огромное число изданий на множестве языков. В нем сквозь призму концепции пространства, выдвинутой авангардом двадцатых, рассмотрена вся история зодчества; к ее последовательности подключена и история «современного движения», обновлявшаяся и дополнявшаяся автором от издания к изданию.
Тип истории архитектуры XX века, трактованной как «современное движение», устоялся в первом послевоенном десятилетии. Большой массив материала объединил в трехтомной «Энциклопедии современной архитектуры» А. Сарторис (Милан, 1948—1957). Материал этот структурирован по географическому и функциональному признаку. Англичанин А. Уиттик в 1950—1953 гг. опубликовал тома «Европейской архитектуры в XX столетии», где внутри разделов, связанных с историческими периодами, выделены главы, посвященные типам зданий. Жанр окончательно сложился в объемистом томе X. Р. Хичкока («Архитектура девятнадцатого и двадцатого веков», Хармондсуэрт, 1957). Здесь архитектура XX века представлена изложением истории «современного движения» в стиле традиционно-академического архитектуроведения. Географический ареал рассмотренных явлений ограничен Западной Европой и США (если не считать нескольких примеров, связанных с Мексикой и Бразилией). «История современной архитектуры» Ю. Ёдике (1958, Штуттгарт) основана на популяризации историко-теоретической концепции 3. Гидиона. Той же модели следовали книги У. Культермана (1958, 1963), В. Скалли (1961), Дж. Джекобуса (1966), Д. Шарпа (1967). Более капитальный двухтомник итальянца Л. Беневоло «История архитектуры XIX и XX столетий» (Мюнхен, 1964) впервые в этом ряду содержит и сведения о явлениях вне «современного движения», но лишь для того, чтобы сравнением подчеркнуть прогрессивность деятельности авангарда. Француз М. Рагон дополнил спектр исследуемых проблем «современного движения», включив материал, посвященный развитию городов («Всемирная история современной архитектуры и градостроительства», 2 тома, Париж, 1972). Несколько особняком стоят труды англичанина Р. Бенема, предлагавшего собственную, не лишенную субъективности, трактовку современной архитектуры, в которой он обращает особое внимание на развитие ее идей («Теория и проектирование в первую эпоху машин», Лондон, 1960).
Период апологии «современного движения» сменился в историографии архитектуры XX столетия временем его развенчания. Толчок дало историко-теоретическое исследование Р. Вентури «Сложность и противоречия в архитектуре» (Нью-Йорк, 1966), публикация которого совпала с кризисом движения. Переоценку ценностей продолжил Р. Бенем в «Эпохе мастеров» (Лондон, 1975). Наибольшей остроты она достигла в таких книгах, как «Форма следует... фиаско» американца П. Блейка (1975, Бостон, Торонто), «Современная архитектура» итальянцев М. Тафури и Ф. Даль Ко (Милан, 1976). Предметом интереса, впрочем, оставался все тот же круг явлений, связанных с «современным движением».
В конце семидесятых началась бурная публикаторская деятельность сторонников постмодернизма — направления, как никакое другое зависевшего от идей, вербальная формулировка которых опережала конкретное творчество. За концептуальной книгой американца Ч. Дженкса «Язык архитектуры постмодернизма» (Лондон, 1977) последовал ряд публикаций, где обзор явлений архитектурной практики служил консолидации нового направления (Дженкс Ч., Четкин У. «Архитектура сегодня», Нью-Йорк, 1982; Портогези П. «Постмодерн», Нью-Йорк, 1982; Клотц Г. «Модерн и постмодерн», Франкфурт-на-Майне, 1984).
Прорыв постмодернизмом канонизированных пределов положил начало ряду исследований, авторы которых отказывались от предвзятой избирательности по отношению к своему предмету и стремились предложить более целостный взгляд на архитектуру XX столетия. Прежде всего, отметим работы англичанина К. Фремптона. В 1980 г. он опубликовал книгу «Современная архитектура. Критическая история» (Лондон, 1980). Выстроенная в ней версия истории архитектуры XIX—XX веков сохранила особое отношение к «современному движению», но уже не ограничена только им. Эту книгу дополняют подготовленные тем же автором в Японии выпуски издания «Глобальная архитектура», где собран хорошо систематизированный материал по архитектуре 1851—1919 и 1920—1945 гг. Характер широкого обзора получила и книга В. М. Лампуньяни «Архитектура и градостроительство 20-го столетия» (Штутгарт, 1980), расчлененная на главы, которые посвящены различным творческим концепциям.
Более традиционна в смысле сосредоточенности вокруг «модернистского» стержня изданная в Японии книга норвежца К. Нурберг-Шульца «Корни современной архитектуры» (Токио, 1988), интересная глубиной привлекаемых исторических аналогий. Серьезную попытку исследовать архитектуру столетия, основываясь на смене направлений в ее проблематике, сделали в монументальном томе «Архитектура в XX веке» И. Гёссель и Г. Лойтхойзер (Кёльн, 1991). Выбор этих главных направлений скорее произволен, а их определение основывается на разноплановых критериях. В результате многое как бы «проскочило» сквозь их сеть, оставляя картину недостаточно полную и уравновешенную. Европоцентризм сохранился и в самых новых попытках создать глобальную картину архитектуры XX века — лишь США и Япония заняли достаточно заметное место.
Основная масса обзоров, публиковавшихся в середине 1990-х годов, была посвящена архитектуре 1980 — начала 1990-х (выделим среди них «Архитектуру сегодня» Джеймса Стила, Лондон, 1997). Самым серьезным общим аналитическим обзором остается «Современная архитектура с 1900 года» У. Дж. Р. Кёртиса, вышедшая впервые в 1982 и переизданная с существенными дополнениями в 1996 г.
На Западе до недавнего времени попытки выстроить целостную модель архитектуры XX века сталкивались со вкусовыми предпочтениями и «табу», установленными приверженцами «современного движения». В России еще более трудную ситуацию для историка создавали идеологические установки, не подлежавшие обсуждению. Рассмотрение архитектуры XX века в единстве глобального культурного контекста считалось нетерпимой ересью.
Следствием стала антиисторичная по сути структура, навязанная коллективу авторов «Всеобщей истории архитектуры» в 12 томах, изданной в Москве в 1967—1975 гг. Архитектура второй половины XIX и XX века до 1917 г. рассмотрена здесь в 10-м томе, архитектура капиталистических стран после этой даты — в 11-м томе, а советская — в 12-м. Материал внутри томов расчленен на главы по странам, а внутри глав — по типам сооружений, что создало статичную сетку, в которой трудно было показать как движение истории, так и динамику синхронных процессов. «Советское» и «зарубежное» («свое» и «чужое») рассматривалось как принадлежащее разным мирам. Подготовленная А. Иконниковым книга «Современная архитектура. Реальность и утопии» была издана с изъятием части, посвященной советской архитектуре, как «Зарубежная архитектура. От „новой архитектуры“ до постмодернизма» (Москва, 1982). Подразумевалось, что по разные стороны железного занавеса архитектура не может иметь общих проблем.
Данная работа должна заполнить сохраняющуюся лакуну. Цель ее — дать представление о системе процессов развития архитектуры XX в. в их противоречивой сложности, не ограниченное предпочтениями к определенным творческим направлениям. «Современное движение» представлено в ней как одна их важнейших составляющих процесса, но не как явление, которым исчерпывается все, заслуживающее внимания. Российская архитектура показана в контексте мировой, как и архитектура неевропейских регионов (хотя в этом последнем направлении сделан лишь шаг, закрепляющий направление, но ограниченный недостаточностью информации). Архитектура рассматривается в широком контексте культуры.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Изд-во полит. лит., 1991. С. 134.
2. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991. С. 314.
3. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 199.
4. Манхейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 40.
5. Манхейм К. Там же.
6. Бердяев Н. А. Новое средневековье. Берлин: Обелиск, 1924. С. 121.
7. Платон. Теэтет // Собр. соч., т. 2. М., 1993; Государство // Собр. соч., т. 3. М., 1994.
8. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб: Прогресс—Культура, «Ювента», 1995. С. 69.
9. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. С. 22—25.
10. Ладовский Н. А. Из протоколов заседания комиссии живописно-скульптурно-архитектурного синтеза // Мастера советской архитектуры об архитектуре, т. 1. М., 1975. С. 344.
11. Venturi R. Complexity and Contradiction in Architecure. N. Y., 1966.
Том 2. — 2002. — 672 с., ил. — ISBN 5-89826-130-3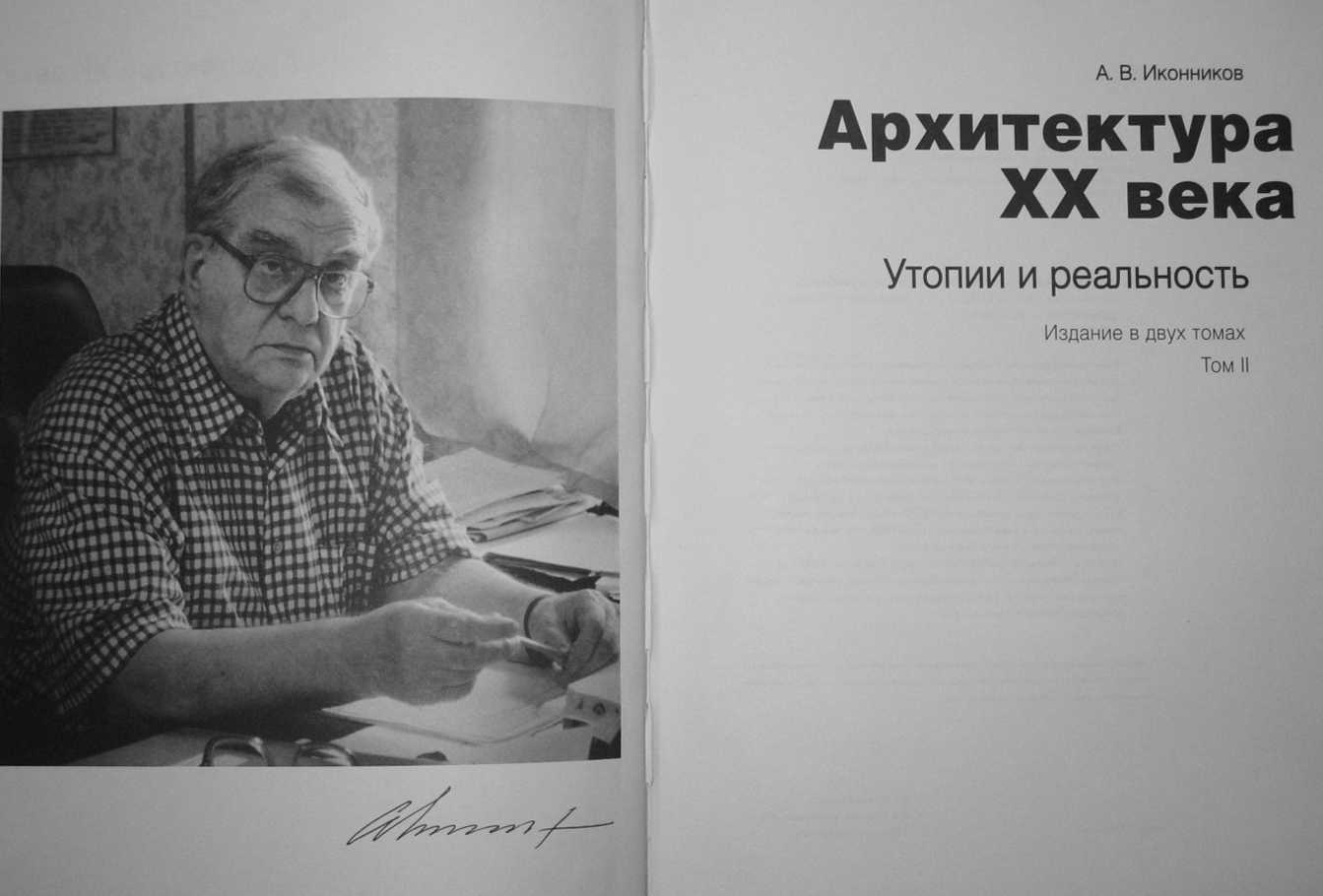
В двухтомном труде Андрея Владимировича Иконникова впервые в отечественной литературе выстроена общая картина мирового архитектурного процесса XX столетия. Архитектура рассмотрена во взаимодействии с культурой времени, в зависимости от социальных процессов и исторических катаклизмов. Архитектура России в ее изменениях показана как часть системы меняющегося мира.
Второй том посвящен развитию архитектуры второй половины столетия. Рассказано о кризисе модернизма, о вытеснявших его постмодернизме и стиле хай тек, о деконструктивизме и поисках путей следующего исторического цикла в последние десятилетия XX века на примере различных архитектурных школ мира. Большое внимание уделено «буму» в архитектуре Юго-Восточной Азии, а также тенденциям развития архитектуры в новой России, что восполняет недостаток внимания к российской архитектуре в зарубежных исследованиях.
Книга богато иллюстрирована (большинство фотографий авторские) и снабжена обширным указателем имен. Она написана безупречным языком, ярко и увлекательно, и доступна широкому кругу читателей, интересующихся проблемами мировой архитектуры, искусства и культуры XX века.
В издании использованы материалы научно-исследовательской работы «Архитектура XX века», выполненной автором в 1996—2001 гг. в Научно-исследовательском институте теории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук.
Содержание II-го тома
Поиски идеальной структуры большого города. 1940—1960 7
План Большого Лондона 9
Развитие городов Северной Европы — Хельсинки и Стокгольма 14
Новые города-утопии — Чандигарх и Бразилиа 26
«Утопия-71» — генеральный план Москвы 34
Архитектура 1960-х — трансформация и поиск альтернатив 39
Кризис идей «новой архитектуры» на Западе 40
Неофункционализм 51
Алвар Аалто — позднее творчество 63
Неофункционализм в архитектуре Советского Союза шестидесятых начала семидесятых годов 69
Историзм и монументализм в архитектуре шестидесятых 93
Возвращение к супернебоскребам 109
Экспрессионизм и антифункционализм 115
Поздний необрутализм и его эпигоны 141
Структурализм 158
Луис Кан и соединение основных постфункционалистских тенденций 163
Метаболизм и архитектура Японии 1960-х — начала 1970-х годов 172
Роберт Вентури: новый взгляд на проблемы современной архитектуры 188
«Соучастие» 193
Архитектура и футурология 199
Распространение современной архитектуры — Азия и Африка 210
Постмодернизм и архитектура. 1975—1990 239
Возникновение системы идей постмодернизма 240
Начало постмодернизма в архитектуре 243
Постмодернистский классицизм 1980-х 263
Фундаменталистский классицизм восьмидесятых 288
Международная строительная выставка 1987 г. в Западном Берлине («IBA-87») 304
Реставрация канонического классицизма 311
Стиль хай-тек 318
Деконструктивизм 339
Неоэкспрессионизм в архитектуре восьмидесятых 363
Неомодернизм 378
«Большие проекты» Парижа 391
Архитектура Советских республик в последние годы единства СССР 407
Архитектура Японии — постметаболизм 444
Архитектура конца века. 1990—2000 487
Архитектура высоких технологий 492
Минимализм 520
Экологическая архитектура 541
Неорационализм и неомодернизм в 1990-е годы 552
Френк Гери, «Калифорнийская школа» и деконструктивисты 567
Архитектура стран Азии в последние десятилетия XX века 582
Архитектура Китая в последние десятилетия XX века 596
Архитектура России. 1990-2000 годы 611
Заключение 644
Память. Андрей Владимирович Иконников (1926—2001) 648
Именной указатель 652
Заключение
По мере того как двадцатое столетие близилось к концу, развитие архитектуры становилось все менее упорядоченным. В усложнившейся картине все труднее выявить объединяющие тенденции. Вновь возникавшие направления оказывались недолговечными. В какой-то мере это зависело от глобализации процесса, вовлекавшего в свою сферу культуру регионов, ранее остававшихся обособленными, и от стремления к самоидентификации культур, проявлявшегося повсюду. Но главным было то, что оказались под вопросом устойчивые общепринятые идеи и ценности, служившие внутренним каркасом некоего единства «архитектуры времени», равно как ослабевали или исчезали внешние императивы.
Мощным объединяющим началом уже к концу XIX столетия стала идея прогресса, оттеснившая веру в то, что «красота спасет мир». За ней следовали убеждения в самоценности новизны и непреложности объективных критериев рационального. Вокруг этого стержня выстраивались конструкции утопических моделей — основа модернизма. Конкуренция развертывалась между вариантами таких моделей — стержневые принципы ревизии не подвергались. Доверие к ним было настолько высоким, что под общей шапкой рациональности оказалось возможно соединить технократическую идею с ее материализмом и прагматичностью и эстетику посткубизма, основанную на идеалистических постулатах неоплатоников и неотомистов. Прогрессистские тенденции скрепили противоречивые начала в динамичном единстве модернизма. В архитектуре на его основе выстраивалась система языка, который использовался и для мифологем, порожденных марксистской социальной утопией, и для материалистических, но далеких от марксизма утопий просвещенных технократов.
Прогрессизм, как и сопутствовавший ему рационалистический метод, безразличны к социальной конкретности и гуманистическому содержанию архитектуры. Созданная на их основе системность архитектурной деятельности могла дать ответ и на иные заказы, чем те, что определялись версиями модернизма. Так возникла модель российского постконструктивизма; прогрессизм которой был ориентирован на «будущее, равное вечности», что снимало проблему конфликта новаторского и традиционного, позволяя использовать язык форм историзма в сочетании с модернистскими структурами. Прогрессистский пафос сохранялся и при создании мифологем власти и большого бизнеса в популистском ар деко.
Тоталитарные режимы тридцатых-сороковых поддерживали системность архитектурной деятельности контролем извне, сохраняя рационализм как рабочий метод. Сокрушая личностные и гуманитарные начала, тоталитаризм использовал в своих целях организующие возможности пространственной формы и приспосабливал к своим метафорам структуру архитектуры. Тоталитаризм во всех его национальных воплощениях в архитектуре опирался на те исходные положения единства и рациональной упорядоченности, которые пропагандировала и разрабатывала технократическая ветвь модернизма. Характерные черты целесообразной организации функционалистского рабочего квартала («зидлунга») оказались перенесены на архитектуру лагерей смерти таких, как Освенцим. Принцип рассудочного, выверенного порядка сросся с символическим выражением беспощадного, эффективно организованного массового злодеяния. Прямое воздействие этого шока могло уйти в глубины забвения, но неприязнь к механистическому простому порядку, как будто немотивированная, не нуждающаяся в подтверждении рассудком, вошла в генетическую память поколений, прорываясь наружу через годы и десятилетия.
Над временем после второй мировой войны тяготели задачи восстановления разрушенного. Эмоции отошли на задний план. Рационализм стал для архитектора и строителей необходимым средством экономии трудовых и материальных ресурсов, поскольку их не хватало даже для самого насущного. Целесообразный порядок стал частью целеполагания, не подлежавшей осмыслению. Но гениально чуткий Ле Корбюзье уже к концу сороковых ощутил необходимость изменения фундаментальных основ порядка в архитектуре, неизбежность отторжения тех начал, на которые падала тень Освенцима. Его капелла в Роншане, вызвавшая глубокий шок во всем профессиональном мире, была жестом отрицания принципов, выдвинутых им же тремя десятилетиями ранее.
Мудрый потомок аахенских каменщиков, Людвиг Мис ван дер Роэ, пытался перевести рационализм из плоскости человеческих отношений, где существуют добро и зло, в плоскость надмирных абстракций, платоновских чистых идей и абсолютных истин. Самому Мису это почти удалось. Но претворившись в массовой практике, его идеи были снижены до популизма «стиля Миса», вернувшегося к прозе механического порядка и механических упрощений, за которыми начинали просматриваться тени связанного с трагедиями века.
Принцип механистического все уравнивающего порядка вновь попытался внедрить в мир идей архитектуры Н. С. Хрущев, пренебрегавший тонкостями процессов развития культуры и массового сознания. Свой доведенный до уровня примитива вариант реанимации модернизма он сделал частью гротескно-наивной утопии («Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»). Идея Хрущева, начавшая материализоваться на одной шестой земной суши, на короткий момент сделала рационалистический модернизм безраздельно преобладающим в архитектуре всего ареала европейско-американской цивилизации.
Но простота «технологизма», представлявшаяся Хрущеву явлением, выходящим за пределы культуры, лишь оживила в памяти гнетущие образы лагерно-барачного бытия.
В шестидесятые годы, когда массовое сознание все больше угнетал ужас возможного всеобщего взаимоуничтожения в ядерном Армагеддоне, начался необратимый кризис модернизма, а точнее, прогрессистского рационализма в его прагматической ипостаси. То, что могло казаться единым «новым движением» в архитектуре еще в пятидесятые годы, распалось на множество конкурирующих и враждующих сект, причем каждая из них претендовала на монопольное обладание истиной в конечной инстанции. Совершенная Луисом Каном попытка выйти к неким «протоклассическим» принципам архитектурного творчества, которые могли бы стать объединяющим началом современной культуры зодчества, осталась одиноким экспериментом. Многие подражали конкретным приемам и формам, использованным Каном; никто не воспринял его принципы. Лишь в Советском Союзе директивные ограничения и диктат партийного руководства удерживали архитектуру в тесном русле хрущевского технологизма.
Но пятидесятые годы стали хронологическим рубежом в архитектуре XX века — между временем, когда преобладала система параллельно развивавшихся и конкурировавших направлений, и временем плюрализма, основанного на относительно нестабильных личных концепциях и легко складывавшихся и распадавшихся объединениях. Роберт Вентури с его историко-теоретическим обоснованием «радикального эклектизма», в котором соединяются новации и цитаты из исторического наследия в соответствии с авторским пониманием сложности и противоречий современности, первым пытался теоретически осмыслить рубеж, обозначившийся в развитии архитектуры века.
Научно-технический прогресс, с неожиданной быстротой положивший конец индустриальной цивилизации, открывая путь постиндустриальной эпохе (или, иначе, эпохе информатизации) в конечном счете изменил не только технические средства строительства. Он положил начало изменениям в духовной сфере жизни общества, заставил по-новому увидеть мир и искать новые пути его понимания. Однозначности материалистической версии рационализма был положен конец; его классическая формула «форму определяет функция» воспринималась уже как парадокс, принадлежащий истории.
Попытки соединить фрагменты формирующейся системы мысли постиндустриального времени в концепции архитектурного постмодернизма, а потом, подчиняясь этой концепции, делать архитектуру, на недолгое время привлекли внимание широких кругов. Казалось, что создана альтернатива архитектуре модернизма, принадлежащей индустриальной цивилизации, и что она сменит ее в постиндустриальную эпоху как широкое, свободно разветвляющееся течение. Однако искусственно сочиненная концепция слишком много впитала в себя из отходящей к прошлому системы положений модернизма, — воспроизводя их напрямую или через инверсию. Обсуждение ее стимулировало мысль и дало толчок появлению некоторых значительных произведений архитектуры восьмидесятых. Но к концу десятилетия постмодернизм в архитектуре исчерпал свои возможности, а его останки были растащены прагматичными создателями коммерческой квазиархитектуры.
Последнее десятилетие века было трудным для архитектуры. Вторжение виртуальной реальности в профессиональное сознание делало эфемерными любые попытки найти надежные точки отсчета и точные критерии, которые могли бы стать основой системы ценностей, принимаемой если не всеми, то хотя бы определенными группами. Хаос в новой системе мысли теоретически стал категорией, уравниваемой в правах с категорией порядка. Эстетическое радикальные умы начали противопоставлять этическому, подвергая сомнению его конструктивность. Рушились мосты между архитектурой и другими искусствами — концептуализм разводил их по разным, не соприкасающимся плоскостям.
В то же время новое тысячелетие открывает перспективу расширения межцивилизационных взаимодействий, а вместе с тем — и возможность создания почвы для новых подходов к критическим для архитектуры проблемам пространства и времени. Высокие технологии уже в первых попытках приложения к архитектуре расширили допустимые горизонты формообразования. Потеря контактов с некоторыми направлениями в искусстве компенсируется возможностями поиска и воплощения новых форм, раскрывающихся через преобразование техномира. Наконец, компьютеризация проектирования открывает все более широкие горизонты перед архитектурным творчеством — не только из-за возможности моделирования любых замыслов в виртуальном мире, но и благодаря появлению способов разработки сложнейших пространственных форм, недоступных простому воображению, а также «внекомпьютерным» средствам переноса их с листов чертежей в реальную конструкцию.
Архитектуре наступающего тысячелетия недостает пока объединяющей концепции, способной связать разрозненные возможности, определить необходимые степени упорядоченности, а главное — обеспечить соблюдение равновесия между природным и искусственным в окружающей человека среде (или, точнее, между человеком как частью природы и «второй природой», создаваемой им самим).
Эти завершающие страницы нужны не только как краткое резюме, останавливающее внимание на одной из сторон процесса развития архитектуры в XX веке. Они объясняют и некоторое различие в описании материалов, посвященных первым шести десятилетиям века и его завершающему периоду. Более конкретизированные тексты, говорящие об этом последнем этапе, соответствуют специфичности его характера.
Скачать 1-й том в формате pdf (яндексдиск; 283 МБ).
Скачать 2-й том в формате pdf (яндексдиск; 330 МБ) (качество оцифровки 2-го тома весьма невысокое)
Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Публикация электронной версии данной книги является рекламой бумажного издания и носит ознакомительный характер. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу 42@tehne.com.
24 сентября 2015, 2:21
2 комментария
|
Партнёры
|






Комментарии
Добавить комментарий