|
|
Иконников А. В. Искусство, среда, время : Эстетическая организация городской среды. — Москва, 1985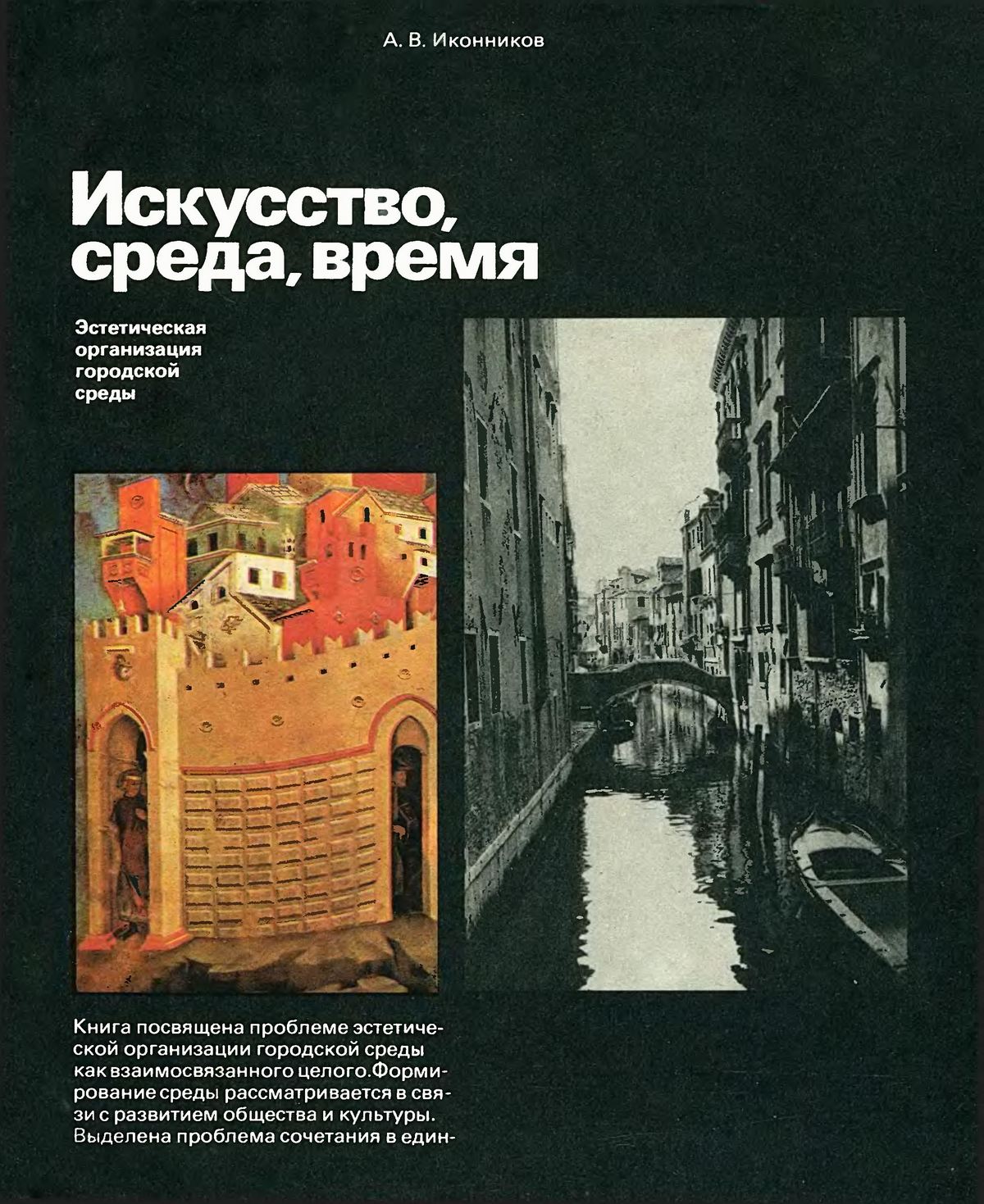 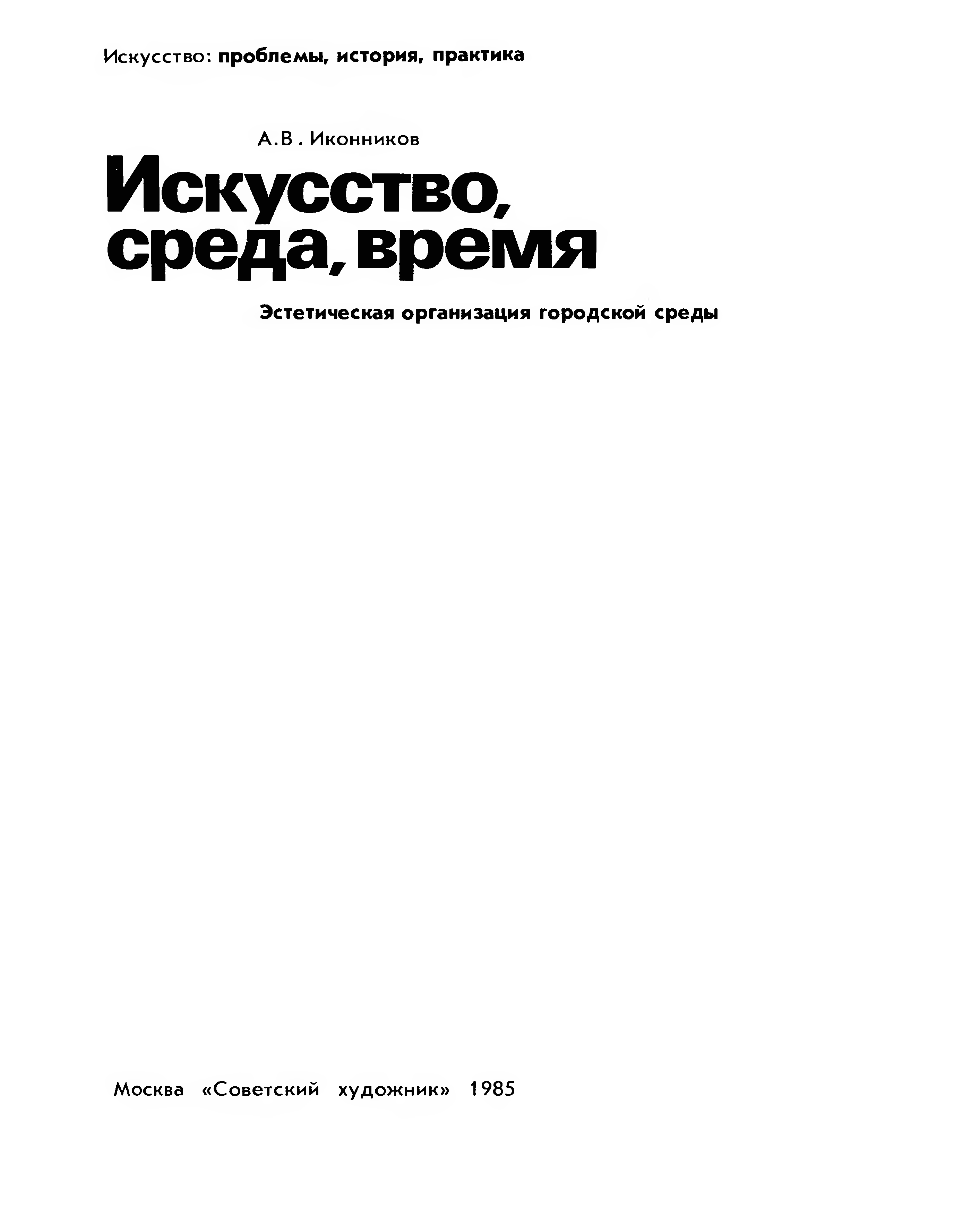 Искусство, среда, время : Эстетическая организация городской среды / А. В. Иконников. — Москва : Советский художник, 1985. — 336 с. : ил.[Аннотация]
Книга посвящена проблеме эстетической организации городской среды как взаимосвязанного целого. Формирование среды рассматривается в связи с развитием общества и культуры. Выделена проблема сочетания в единстве среды разновременно возникших составляющих — старого и нового. Особое внимание уделено значению искусства и художественной культуры для формирования городов. Книга иллюстрирована многочисленными фотографиями, значительная часть которых выполнена автором. Рассчитана на художников, дизайнеров, архитекторов, искусствоведов, студентов художественных и архитектурных вузов.
СОДЕРЖАНИЕ
Город и его среда ... 3
Городская среда — идеал и реальность ... 17
Человек — мера всех вещей ... 77
Городская среда и образ времени ... 111
Содержательность форм городской среды ... 161
Эстетическая организация среды — традиции городских культур ... 211
Искусство в городской среде ... 271
Город и его среда
Проблемы искусственной среды, «второй природы», которую создает вокруг себя человек, — по сути своей, проблемы человеческие. Человек неотделим от вещественности своего бытия. Организуя окружение, он формирует «материальный каркас» своей деятельности и системы отношений между людьми. Таким образом, планируя предметный мир, человек вместе с ним планирует будущую жизнь и в конечном счете самого себя. Представление, на которое он при этом опирается, должно охватывать не только совокупность материальных элементов предметного окружения, но и деятельность людей. Это и есть образ среды.
«Вторая природа» возникает как «чувственно предлежащая перед нами человеческая психология»1, как отражение в материальных формах социальной структуры и духовного состояния общества. Изменяя среду, чтобы создать лучшие условия для жизни, люди воплощают в ней некий идеальный образ. Преобразованная среда, став частью действительности, оказывает обратное влияние на общество и развитие личности. Ее структура поощряет действия по определенной программе, закладываемой не только в систему материального разграничения пространств и размещения предметов, но и в ту эмоциональную и смысловую информацию, которую выражает «язык» пространственных форм. Предметное окружение человека воплощает огромный объем информации о вселенной и обществе, об отношениях между людьми и принятых обществом формах поведения; в нем опредмечивается опыт, передаваемый от поколения к поколению. Оно, таким образом, служит и одним из средств коммуникационной деятельности, связывающей людей через пространство и время.
____________
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., Госполитиздат, 1956, с. 566.
Человек реагирует на свое окружение, не только формируя свое поведение. Среда порождает сложный комплекс психических процессов. С ней связываются многие значимые для человека ценности — в том числе художественные и эстетические. Окружение может быть любимым или вызывающим отрицательные эмоции.
Его образы становятся многозначными символами. Оно влияет на становление личности и формирование отношений в социуме, накладывает отпечаток на коллективный характер последнего («московский характер», «типичный москвич» и пр.). Организация предметно-пространственного окружения поэтому не только одно из средств закрепить преемственность определенных типов поведения и форм культуры, но и средство воспитания, формирования личности. Она направлена не только на систему материальных объектов, но и на людей, которые будут пользоваться этой системой: мы создаем города, а города эти в чем-то создают нас самих.
В той целостности, которую образует среда, соединяющая материальное окружение и поведение людей, существует и искусство. Его произведения — монументальные, связанные с определенным местом и его характером, или станковые, образующие как бы самодостаточный мир в собственных пределах, — воспринимаются соотнесениями с формами окружения и смысловым контекстом, в который это окружение складывается. Однако искусство присутствует в среде не только своими произведениями. Его роль нельзя свести к повышению «информативности» окружения или внедрению в него художественных ценностей. Несводима эта роль и к удовлетворению эстетической потребности. Все это входит в задачу художника, но высшая цель искусства — интеграция среды и связанных с ней видов деятельности, приведение среды к «очеловеченному» единству. Ценности искусства определяют приемы, которые используются и вне его сферы, входят в способы упорядочения формы «полезных», «нехудожественных» вещей, систем вещей, предметно-пространственного окружения в его комплексах — вплоть до города в целом. Воспитывая чувствующий красоту формы глаз, искусство создает необходимое условие для того, чтобы красота вошла во «вторую природу», в среду, которую создает вокруг себя человек. Художественный идеал, предлагаемый искусством, образует ориентир для ее интеграции, приведения к осмысленному «очеловеченному» единству.
Сегодня мы живем в густонаселенном, урбанизированном мире. Чем больше разрастаются территории современных городов, чем плотнее становится их застройка, тем сильнее воздействует искусственная среда на природу и человека, изменяя складывавшиеся за многие века природные системы и связи между человеком и природой. «Экологический бум» стал одной из примет времени. На Западе стихийность капиталистической экономики усугубляется воздействием роста населения и промышленной деятельности на природу — это породило экологическую эсхатологию, предрекающую близкую гибель всего живого на Земле под воздействием побочных следствий технического прогресса. Так называемый Римский клуб ученых выступил в 1972 году с предсказанием всемирной катастрофы, вызванной истощением природных ресурсов и загрязнением окружения промышленными отходами. Примерно в то же время французский эколог Ф. Сен-Марк писал, что «уже сегодня на Западе крайне остро ощущается нехватка пространства, и для выживания Запада это опаснее, чем атомная бомба... Сегодня не хватает земли, завтра не будет хватать воды, послезавтра — воздуха»2.
____________
2 Сен-Марк Ф. Социализация природы. М., Прогресс, 1977, с. 60.
Охрана окружающей среды стала актуальной задачей и для социалистических стран. Опасность не сводится, однако, к загрязнению атмосферы и водоемов или к нарушению равновесия в природных системах. Состояние окружения рождает проблемы социальные и психологические, заставляет задуматься об экологии не только природных биологических сообществ, но и об «экологии культуры». Мы должны защитить культурное наследие от массированного давления нового и защитить само новое от рождаемой невиданными ранее темпами сумбурной неупорядоченности, от последствий нескоординированных действий и технизации, подавляющей отражение человеческого в окружении. Эту задачу нельзя отнести к второстепенным — речь идет о сохранении невосполнимых ценностей и условиях воспроизводства человеческой личности.
Еще в конце 1950-х годов некоторые социологи на Западе утверждали, что повышение преступности в городах связано с увеличением территории, занимаемой новыми стандартизированными жилыми комплексами3. Явление это стали рассматривать в прямой зависимости от их визуальных качеств, во многом влияющих на психологический климат. В 1970-е годы разрушительность воздействия окружения, несущего печать механического функционализма на психику людей, воплотилась в конкретном образе-символе — им стал Проут-Айгоу, жилой район в американском городе Сент-Луисе. Район был сооружен как образцовый в начале 1950-х годов на месте, которое расчистили от трущоб. Форма его основывалась на технократической модели жизнеустройства малоимущих, отмеченной экономичностью и добродетельным пуританством.
____________
3 Lauve Ch. de. Familie et habitation. Vol. 1. Paris, 1959.
Однако нарочито монотонная среда, отражающая жесткое ограничение утилитарно необходимым, лишь усугубляла сознание социальной неполноценности, тяготевшее над населением района, который создавался как «гетто для бедных». Конфликты, характерные для городов Америки, обострившись, стали прорываться наружу актами бессмысленной агрессивности, и в 1972 году муниципалитет Сент-Луиса, окончательно утративший контроль над районом, распорядился взорвать его постройки.
Нет, нельзя некритически воспринимать суждения некоторых западных социологов, которыми подобные кризисы связываются напрямую с пространственной организацией и визуальными характеристиками среды. Проут-Айгоу, действительно, был угнетающе монотонен. Но драма, которая разыгралась на этой сцене, — порождение социальных проблем современного капиталистического города и конкретно — американского города. Было бы ошибкой принять правомерность попыток списывать на счет тех или иных свойств предметно-пространственного окружения результаты обострения социальных конфликтов. Нельзя, однако, игнорировать влияние среды на сознание и поведение. Влияние это люди ощущают повседневно и подчас с большой остротой.
Огромные объемы современного строительства и у нас делают такое влияние фактором, которым нельзя пренебрегать. Можно было ожидать, что на обширных свободных землях, где строятся новые районы, сложится окружение, отвечающее всем потребностям современного человека, в том числе — и его эстетической потребности. Сделано для этого многое. Физические характеристики новых массивов застройки соответствуют требованиям, установленным санитарно-гигиенической наукой; солнце не менее, чем это необходимо, облучает жилища и территорию; кварталы хорошо проветриваются, а там, где нужно, получают заслоны от ветра; среди домов много открытых пространств и зелени; сети обслуживания с достаточной полнотой удовлетворяют житейские потребности. Не забыто и эстетическое — тщательно выверяются соотношения объемов и пространств, создаются контрасты очертаний, отыскивается выразительное чередование картин, которые открываются перед пешеходом (обо всем этом при застройке старых частей города никто, пожалуй, и не задумывался).
Но если первые массивы крупнопанельных домов, выраставшие у нас в конце 1950-х годов, встречались почти с восторгом, то по мере их умножения реакция становилась более сдержанной. Новые дома выше и комфортабельнее, но массовые предпочтения постепенно склонялись к старым, никем специально не проектированным кварталам, постепенно и полустихийно складывавшимся, к их старомодным жилищам, сумбурным и тесным дворам, пестрому разностилью тронутых ветхостью фасадов. Такие предпочтения игнорируют очевидность многих объективных преимуществ нового; за ними — неудовлетворенность качествами новой среды, которые не очень легко определить, и смутные очертания некоего идеала, к которому старое иногда ближе, чем новое.
Одна из причин трудного привыкания к новой среде определяется самой ее однородностью (которая умозрительно может представляться ее достоинством). Соединение созданного в разное время, на основе различных стилистических систем, стало общим свойством современных городов, которое воспринимается как естественное, воплотившее присущие городу закономерности развития. На этой основе сложились нормы визуального мышления, заставляющие отвергать новую среду, объединенную общими характеристиками, как «искусственную», неестественную. На фоне этого отношения такие недостатки нового, как механическая монотонность форм, чрезмерная жесткость и чрезмерно крупный масштаб пространственной структуры, воспринимаются обостренно, невольно преувеличиваются в своем значении.
Давно ли мы строго осуждали архитекторов конца XIX века за то, что они не соблюли стройный порядок и единообразие многих ансамблей классицизма? Но уютное и не обязывающее к единообразию поведения разностилье эклектики этого времени из антиценности постепенно превратилось в ценность. Нет, неорусские кирпичные узоры и лепные орнаменты необарокко не стали сами по себе затмевать взвешенно гармоничную строгость классицизма. Происходило более широкое смещение ценностной ориентации — интерес, который фокусировался на отдельном объекте, «памятнике», стал распространяться на нечто более сложное и «размытое». Традиционное искусствознание сделало своей основой отбор шедевров среди необозримого множества результатов художественной деятельности. Оно учило видению, которое фокусировалось на избранном и рекомендованном, в городе — на отмеченном звездочкой в путеводителе, игнорируя все, что вокруг. Так пунктирно город воспринимался еще сравнительно недавно. Однако в сознании и видении современного человека произошел сдвиг, благодаря которому в сферу внимания стал входить и контекст, в котором существуют «памятники». Стало очевидно, что достоинства любого шедевра во многом зависят от окружения, в котором он существует и воспринимается, что ценности уникального возникают только в соотнесении с повседневным и обычным. Наконец, предметом восприятия стала и сама среда, ее целостность.
Мы осознали, что подчас ценна именно среда в своей совокупности, хотя ни одна часть ее, выделенная особо, на статус памятника претендовать не может. Так, как описанная поэтом Булатом Окуджавой «Страна Арбат», лежащее в сердце Москвы «хитросплетение переулков и улочек, дворов и сквериков, где бабушки выгуливали нас по снежку; хитросплетение заученных дорожек и извилистых мостовых, всего, всего со своим запахом и цветом и интонацией типично арбатской, не склонного к внешним эффектам, не падкого на подражание, знающего себе высокую цену и истинное предназначение. Все это, примыкающее к улице Арбат, и есть Арбат»4. В этой ностальгической цитате легко ощутить то главное, что стало доминировать в восприятии среды, — не отчужденное совершенство памятников и не абстракции упорядоченности и стилевого единства, а конкретность, неповторимость следов человеческого бытия, связывающих настоящее с пластами прошлого, личное, интимное — с общезначимым. Для оценки окружения наиболее существенна теперь степень разнообразия возможностей, которые открываются для человеческой деятельности, и выбора форм поведения в данной пространственной ситуации. Ценность его определяет и опредмеченный опыт поколений, являющийся опорой для культурной преемственности.
____________
4 Окуджава Б. Ах, Арбат, мой Арбат — ты мое отечество... — Декоративное искусство СССР, 1981, № 6, с. 20.
Живая ткань среды не терпит нарочитых прорывов; стало невозможным отторгать от ее целостности пласты, оставленные концом XIX — началом XX столетия. Исчезло «табу», и мы смогли беспристрастно оценить созданное этим временем и его значение для наших городов и нашей культуры. Стало ясно, например, что Невский проспект в Ленинграде — не пунктир шедевров русского классицизма, разделенных мертвыми зонами эклектической «не-архитектуры», а целостная система, в которой взаимодействуют различные культурные слои, система, ценности которой (в том числе и эстетические) во многом определяются именно этим взаимодействием.
Стремление ощутить целостность мира стало приметой нашего времени. Земляне XX века увидели свою планету извне, с борта космических аппаратов, впервые чувственно ощутив единство всего, что на ней существует. Естественно, что взаимозависимости вещей и явлений стали все больше занимать внимание. И среда стала понятием, через которое раскрывается связность мира в нашем обычном, «земном» восприятии, понятием, которым выражается связь микрокосма нашего «я» с общественным бытием и беспредельностью вселенной. Это понятие объединяет искусство и не-искусство; живую, текучую, меняющуюся жизнь и ее статичную оболочку. Бытие среды сцепляет воедино пространство, время и движение. Как целое, как система она изменчива, подвижна, непрерывна.
В ее изменчивости соединяется деятельность разных поколений — каждое начинает с продолжения завершенного предшествовавшими. Преемственность культуры, таким образом, входит в жизнь как реальный фактор, настоящее получает опору в историческом опыте. И благодаря этому среда становится связью не только между человеком и миром сегодняшним, развернутым в пространстве, но и с временной глубинностью бытия, его четвертым измерением — временем.
Понятие «жизненная среда» включает в себя всю совокупность условий человеческого существования. Ее можно рассматривать в разных пространственных пределах — от биосферы Земли до элементарной пространственной ячейки с ее предметным наполнением — микрокосма отдельной личности. Каждой градации величин отвечают соразмерные ей общность людей и система деятельности, на каждой с наибольшей рельефностью выступают проблемы определенного круга. Интересующая нас эстетическая проблематика в различных своих аспектах выступает на уровне всего поселения, комплексов его застройки, отдельных объектов — зданий. В центре нашего внимания, таким образом, будет «вторая природа», искусственная среда, объединяемая пространственной системой города на взаимосвязанных уровнях ее организации (город — комплекс застройки — здание — интерьер). Деятельность человека развертывается в пространственных пределах, отвечающих всем этим уровням; человек образует для них главное связующее начало, единую меру, единый масштаб величин.
Современные города стали жизненной средой сотен миллионов людей; в них сосредоточены гигантские производительные силы; они — основные очаги культуры, экономического и социального прогресса. Понятие «городская среда» не исчерпывается зданиями, сооружениями, благоустройством и элементами естественной природы, включенными в пределы города. Это — постоянное взаимодействие человеческого сообщества и предметно-пространственного окружения, многообразных систем деятельности и форм поведения с совмещенными в пространстве материальными структурами. В современном городе эти структуры сложны сами по себе, строятся на основе различных закономерностей и потому образуют особенно сложные напластования (в число их входят: структура природного ландшафта, архитектурно-пространственная структура, структуры транспорта и инженерных сетей).
Насколько существенно для характера городской среды сочетание подвижного и стабильного, самой жизни и ее оболочки, показывает сравнение города в будни и праздники, в «часы пик» и ночного затишья. Эту очевидность подтверждают практика изобразительного искусства, строящего «портрет» города на сопоставлениях жизненных сцен и архитектурного ландшафта, и отражение города в литературе. Отчетливо конкретный образ Петербурга в строках пушкинского «Медного всадника» возникает в чередовании очертаний городского пейзажа, обобщенного призрачной гармонией белой ночи, мелькающего калейдоскопа примет столичного быта и описания внезапного буйства стихии, вторгающейся в город. В «Невском проспекте» Н. В. Гоголя суточный цикл пульсации городской среды показан через движение людских масс и смену форм поведения. Архитектура отступает на второй план, присутствует как видимое лишь боковым зрением ограничение происходящего. Гоголевская повесть акцентирует еще один «человеческий» аспект бытия города — субъективность его восприятия, эмоциональность образов, которые рождает соприкосновение с ним.
Любое описание среды субъективно, ее отражение в сознании всегда имеет эмоциональную окраску, всегда сопрягается с ценностным отношением, зависит от позиции субъекта, его потребностей и предпочтений. Воспринимаемая в потоке житейских переживаний, куда вливается и переживание, рождаемое контрастом с окружением, среда оценивается прежде всего практически, как сфера деятельности и ситуация, обязывающая к определенным формам поведения. Погруженность в повседневные житейские переживания исключает эстетическое отношение к среде (заметим, что эстетическое отношение не присутствует в повести Н. В. Гоголя «Невский проспект», равно как и в тексте Б. Окуджавы, посвященном Арбату). Чтобы среда получила для нас эстетическое значение, необходима особая ситуация, в которой возникает эстетическая установка. И. Кант связывал такую установку с незаинтересованностью суждения, освобождением от зависимости, рождаемой утилитарным потреблением, а Н. Г. Чернышевский определял ее как «бескорыстную».
Отношение, в котором преодолевается бытовая повседневность, характерно для ситуации праздника. «Праздник освобождает от всякой утилитарности и практицизма; это — временный выход в утопический мир», — писал М. Бахтин5. Его свобода открывает возможность бескорыстного, не связанного с практикой будней созерцания окружения. Такая свобода дается нам и в тех сугубо личных «малых праздниках», которыми могут стать посещение театра или встреча с давними друзьями, на какое-то время выводящие за пределы привычного и будничного, позволяя увидеть их как «противостоящий образ». Праздником может стать путешествие, встреча с новым и неизвестным. Отсюда и пресловутое «восприятие туриста», открывающее иной срез действительности, чем обыденное восприятие. В его рамках визуальные характеристики наиболее существенны, эстетическая установка доминирует. Кратковременность контакта заставляет искать некие обобщенные характеристики образа города. Материалом для них служат обычно достопримечательности, рекомендуемые «бывалыми людьми», гидом или путеводителем.
____________
5 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., Наука, 1965, с. 300.
Иное включает в образ города и оценивает эстетически его постоянный обитатель, когда для него возникает эстетическая ситуация. Он, как правило, знает достопримечательности, но ценит и то, что входит в привычные схемы его практической ориентации, связано с его жизненным опытом и сугубо личными переживаниями. В его видении городская среда более сложна и многослойна, она ближе к непрерывной ткани, чем к системе доминант, какой предстает туристу. Постоянный обитатель отмечает детали «первого плана», не задерживающие внимание гостя, — витрину на углу, группу деревьев, декоративную скульптуру в сквере, причудливый дом, несущий следы многочисленных перестроек. Такие фрагменты могут быть не менее значимы для образа города, складывающегося в его сознании, чем шпиль Адмиралтейства или многоцветные купола Василия Блаженного.
Эстетическая установка входит и в созерцательное восприятие, возникающее под влиянием внутренних импульсов или сигналов, намеренно введенных в систему среды, чтобы провоцировать эстетическую установку. Картина Петербурга во вступлении к «Медному всаднику» — одна из самых проникновенных фиксаций эстетического переживания городской среды. Пушкин очерчивает и обстановку, рождающую «бескорыстное созерцание»:
...Прозрачный сумрак,
блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады.
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла...6
____________
6 Пушкин А. С. Медный всадник. Полн. собр. соч. в 10-ти тт. Л., 1977, т. 4, с. 271.
Переключение на эстетическую установку — необходимое условие для восприятия произведений искусства. Музей создает такое переключение для всех экспонатов своей коллекции. Этой цели служат и особый характер окружения, и принятые культурой специфические формы «музейного поведения». В малом масштабе ту же функцию вычленения художественного из повседневного выполняют рама станковой картины и пьедестал монумента.
В «привычном автоматизме восприятия»7 могут раствориться и объемно-пространственные доминанты города. Чтобы вывести восприятие из этого состояния и подготовить его переключение на эстетическое, используются «сигналы», определяемые отношениями главного объекта и окружения. Такую роль может играть пространственное обособление здания, служащего художественно-смысловым и формально-эстетическим центром архитектурного ансамбля (расположение посреди площади, в разрыве непрерывной застройки или за парадным двором, отделяющим от фронта улицы), контраст его величины или структуры с окружением. Подобные приемы переключения восприятия на эстетическую установку, близкие к приему остранения, который разрабатывался в нашей поэтике 1920-х годов, обращены не только на упорядочение предметной формы, но и на условия ее восприятия и в конечном счете — на системы жизненных процессов. И формообразование, и «управление восприятием» — лишь средства достижения целей, связанных с гармоничным развитием личности и преобразованием жизни в соответствии с общественным идеалом. Попытки гармонизации предметно-пространственного окружения на основе формотворчества, замкнутого в собственных проблемах, не дают результата. Изгоняемый хаос оказывается неожиданно устойчивым, а наибольшим достижением может стать механическая унификация каких-то фрагментов. Конечной целью является сама жизнь, а не оболочка жизни. Задачи организации среды можно уподобить сценографии, которая не сводится к отработке компонентов театрального действа, а направлена на его целостность. Наподобие того как декорации служат реализации режиссерского замысла, формы среды должны основываться на некоей режиссуре, гармонизирующей формы деятельности и поведения. Первоосновой же будет «социальная драматургия», определяющая цели гармонизации в соответствии с общественным идеалом.
____________
7 Выготский С. Л. Психология искусства. Изд. 2. М., Искусство, 1968, с. 254.
В современной культуре средовой подход еще не получил окончательной кристаллизации и комплексного осуществления, не завоевал определенного статуса в градообразовании и художественной практике. Нет и всестороннего теоретического исследования проблемы. В нашей науке пока сложился лишь редкий пунктир работ, посвященных предметно-пространственной среде в ее системной целостности и выходящих за традиционные рамки проблем градостроительства или синтеза искусств. Среди них — работы В. Аронова, Е. Асса, В. Глазычева, А. Гутнова, А. Иконникова, Г. Каганова, А. Раппопорта, А. Рябушина, Н. Соловьева, С. Хан-Магомедова8. Больше по объему зарубежная литература, где особенно интересны комплексные исследования «гуманистических» аспектов среды, которые провел К. Линч, посвященные семантическим аспектам работы К. Нурберг-Шульца, исследования психологии восприятия А. Рапопорта, Р. Зоммера, Э. Т. Холла, Г. Прошански9. Но и здесь нет фундаментальных работ, системно охватывающих многообразные аспекты проблемы гармонизации городской среды. Однако недостаточная разработанность вопроса — не причина вновь и вновь оставлять его на будущее. Объективная потребность в его разработке очевидна. Ее определяют практические задачи преобразования предметно-пространственного окружения и заинтересованность общественного мнения.
____________
8 Аронов В. Р. Эстетическая организация предметной среды. — В кн. : Искусство и научно-технический прогресс. М., Искусство, 1973; Асс Е.В. Дизайн в контексте городской среды. — Труды ВНИИТЭ, вып. 29; Глазычев В. Л. Проблемы метода в проектировании среды. — В сб.: Проблемы теории и истории архитектуры. Сб. 5. М., 1979 (В надзаг.: ЦНИИП градостроительства); Гутнов А. Э. Влияние изменяемости городской среды на принципы ее проектирования. Автореф. дис. на соискание уч. степени канд. архитектуры. М., 1970; Иконников А. В. Мера пространства — человек. — Декоративное искусство СССР, 1973, № 3; Иконников А. В. Среда и образ времени. — Декоративное искусство СССР, 1974, № 9; Каганов Г. З. Влияние планировочных факторов на некоторые аспекты городской среды. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. архитектуры. Л., 1980; Раппопорт А. Городская среда и драматургия архитектурной композиции. — В сб.: Проблемы теории и истории архитектуры. Сб. 5. М., 1979; Рябушин А. В. Развитие жилой среды М., Стройиздат, 1976; Соловьев Н. К. Взаимодействие пластических искусств в формировании городской среды. Автореф. дис. на соискание уч. степени канд. искусствоведения. М., 1980; Хан-Магомедов С. О. Семантика предметной среды. — Декоративное искусство СССР, 1976. № 5.
9 Линч К. Образ города. М., Стройиздат, 1982; Lynch К. A Theory of a Good City Form. Cambridge Mass.: MIT Press, 1981; Norberg-Schulz Ch. Existence, Space and Architecture. London: Studio Vista, 1971; Rapoport A. Human Aspects of Urban Form. New York: Pergamon, 1977; Sommer R. Personal Space: The Behavioral Basis of Design. New York: Prentice Hall, 1969; Hall E. T. The Silent Language. New York: Doubleday, 1959; Environmental Psychology: Man and His Physical Setting. Ed. by H. Proshansky, W. Ittelson, L. Rivlin. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1970.
В сложной совокупности проблем совершенствования городской среды особого внимания заслуживают те, что связаны с интегрирующей ролью художественного начала. Такое утверждение — не отражение субъективных предпочтений. В современном мире с его углубляющейся специализацией отраслей производства и видов деятельности искусство сохраняет роль фактора интеграции. Только оно способно дать ощутимые, предметные формы тому идеалу, «городу мечты», который может стать общим ориентиром для разных видов деятельности, направленных к организации среды, его средства могут открыть путь единения форм жизни и ее пространственной оболочки. В рамках рационального мышления и техницистской направленности задача не получает приемлемого решения, да и не может его получить.
Научно-техническая революция стала мощным фактором прогресса. Однако ее морально-психологические издержки — следствие диалектики ее развития, необходимо нейтрализовать, сознательно, целеустремленно сопрягая научно-технические новации с расширением сферы художественной деятельности, которое облегчит людям эмоциональное освоение этого нового и его естественное включение в сферу общественного сознания, в русло развития собственно человека. Болезненная реакция на предметно-пространственное окружение, упорядоченное лишь «по законам техники», которая часто проявляется сейчас в массовом сознании, свидетельствует о необходимости не просто украшения, поверхностной эстетизации окружения. Необходима последовательная гуманизация всех форм человеческой деятельности и гуманизация среды, необходимо через эстетическое подготовить этическое, нравственное обеспечение научно-технического прогресса. Прекрасными наши города станут вместе с ростом умения до конца использовать технику, владеющую могучими природными силами, в интересах развития человеческой личности и общественного прогресса. Значение этой задачи очень велико, и именно поэтому эстетические ценности городской среды привлекают сейчас всеобщее заинтересованное внимание.
Примеры страниц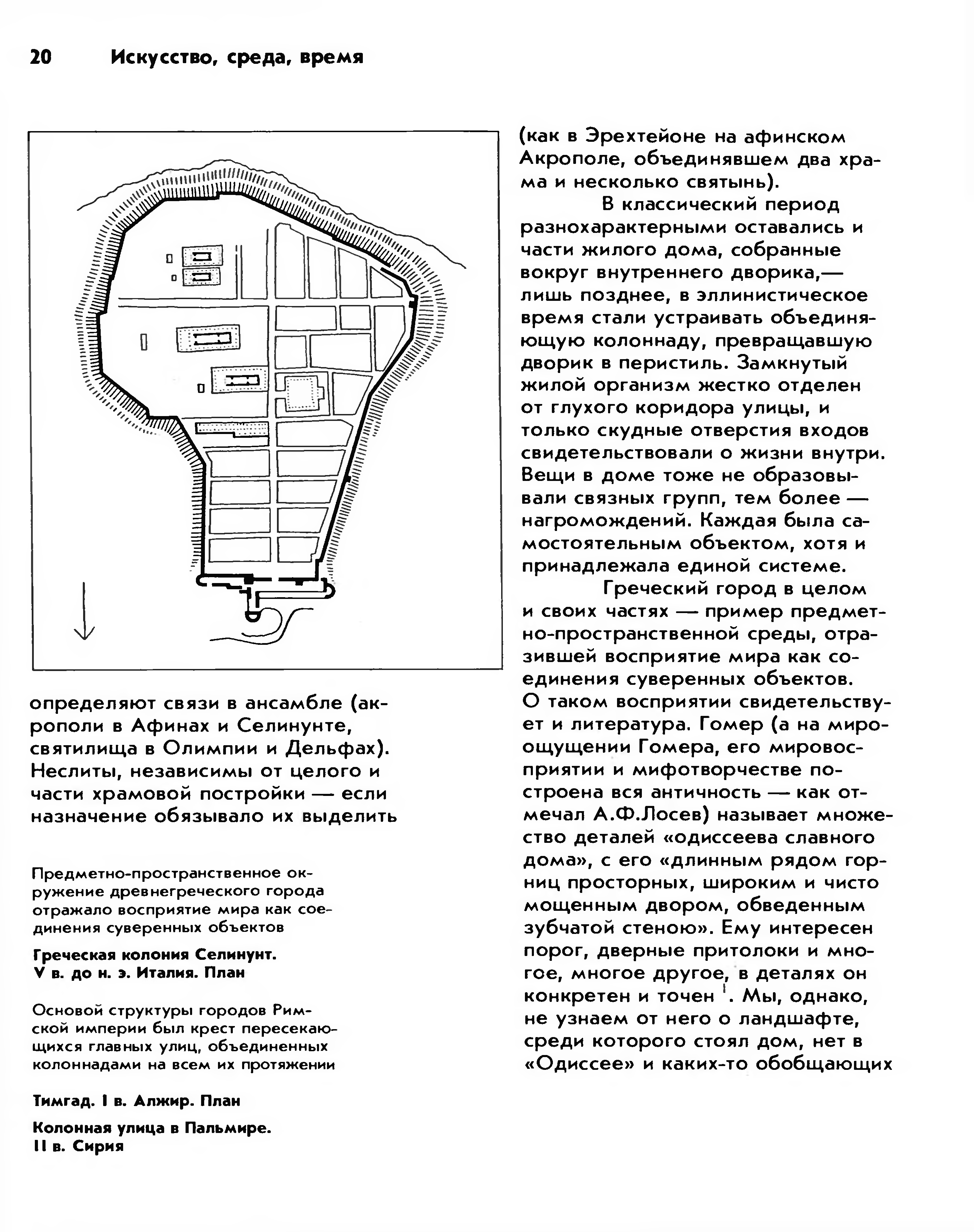 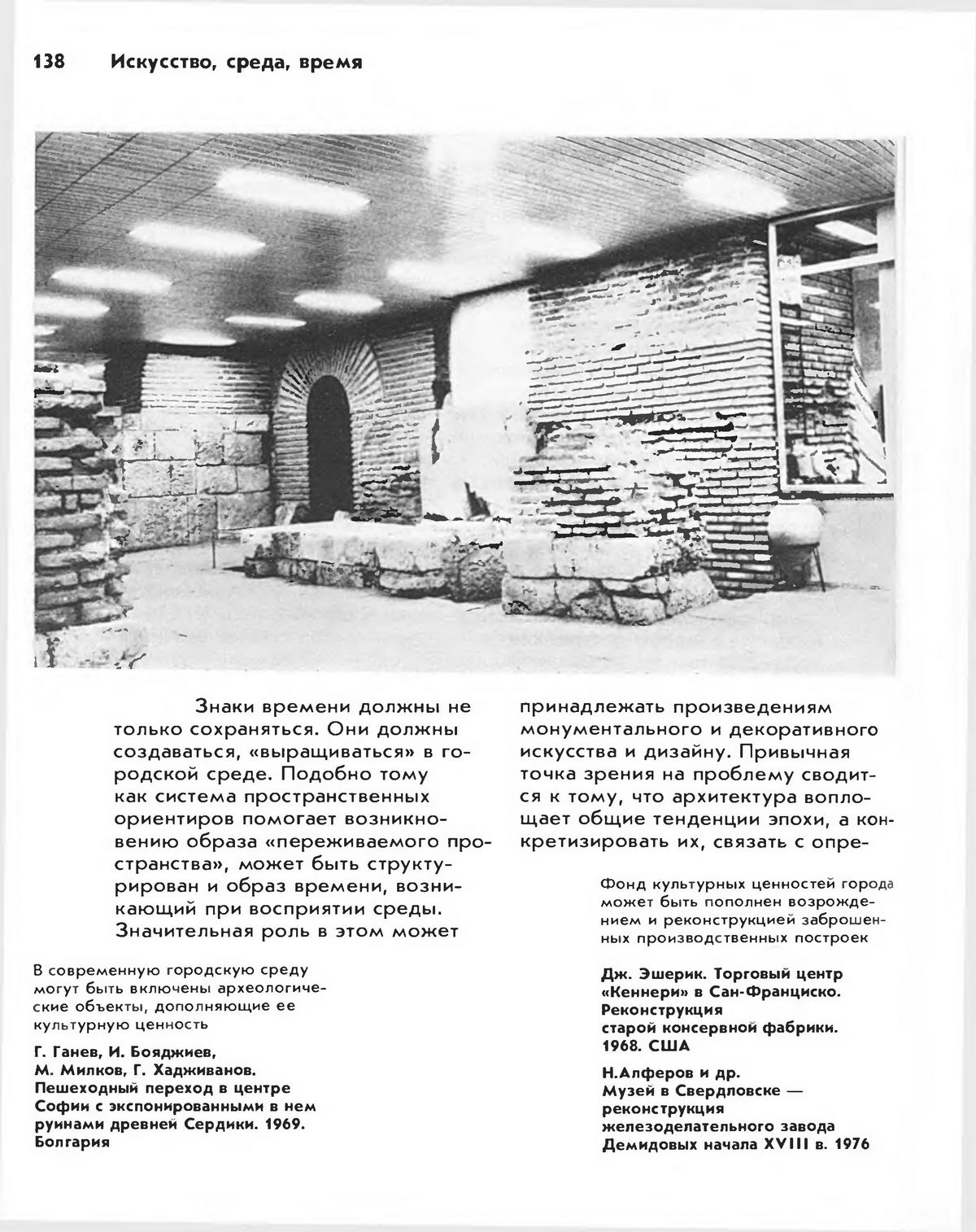
Скачать издание в формате djvu (яндексдиск, 16,0 МБ)
Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 16,8 МБ)
Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. Если вы являетесь правообладателем и не желаете некоммерческой публикации настоящего издания, пишите по адресу 42@tehne.com — ссылка на скачивание будет удалена.
26 июня 2014, 14:57
1 комментарий
|
Партнёры
|






Комментарии
Добавить комментарий