|
|
Кузмин М. А. Условности : Статьи об искусстве. — Петроград, 1923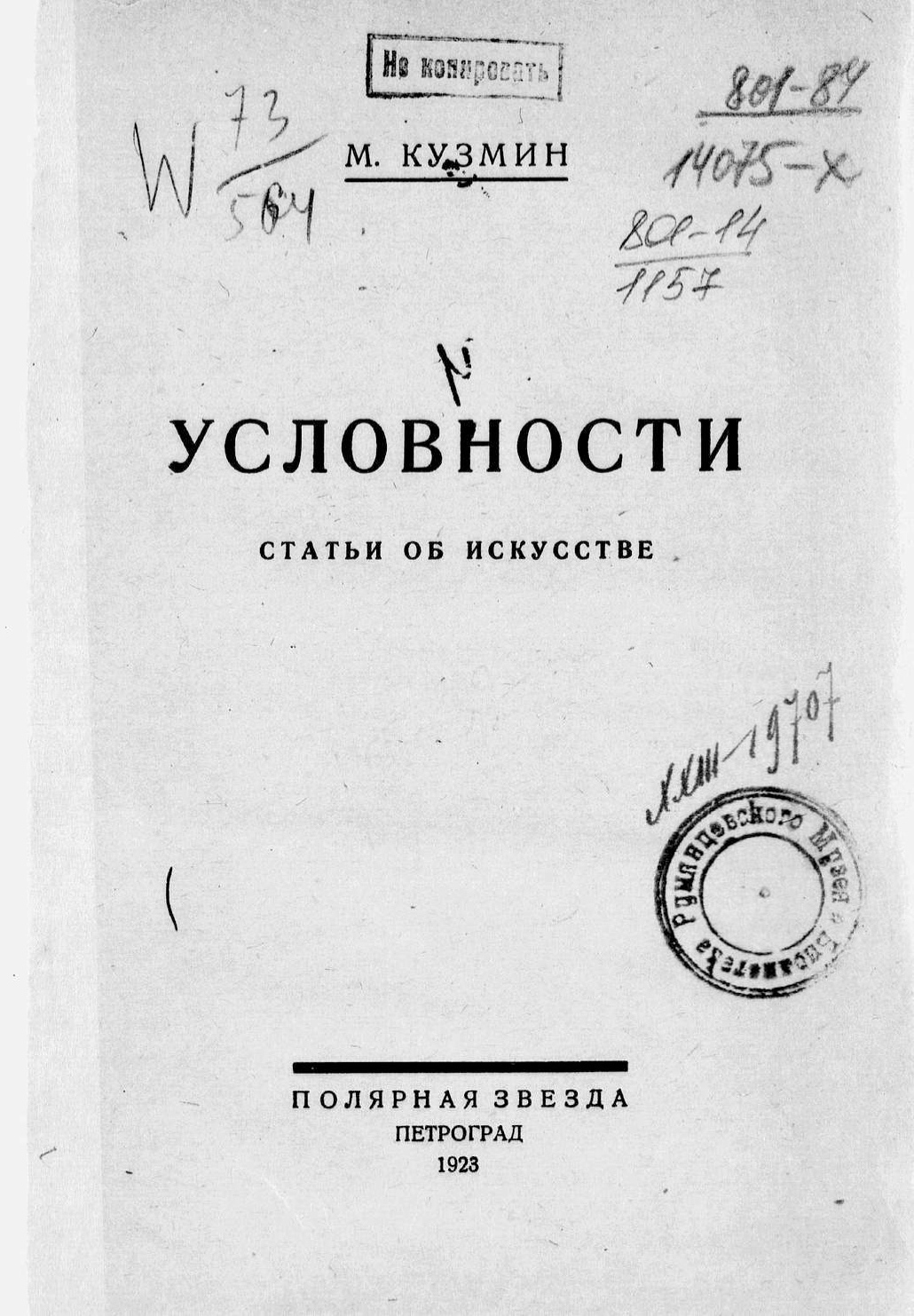 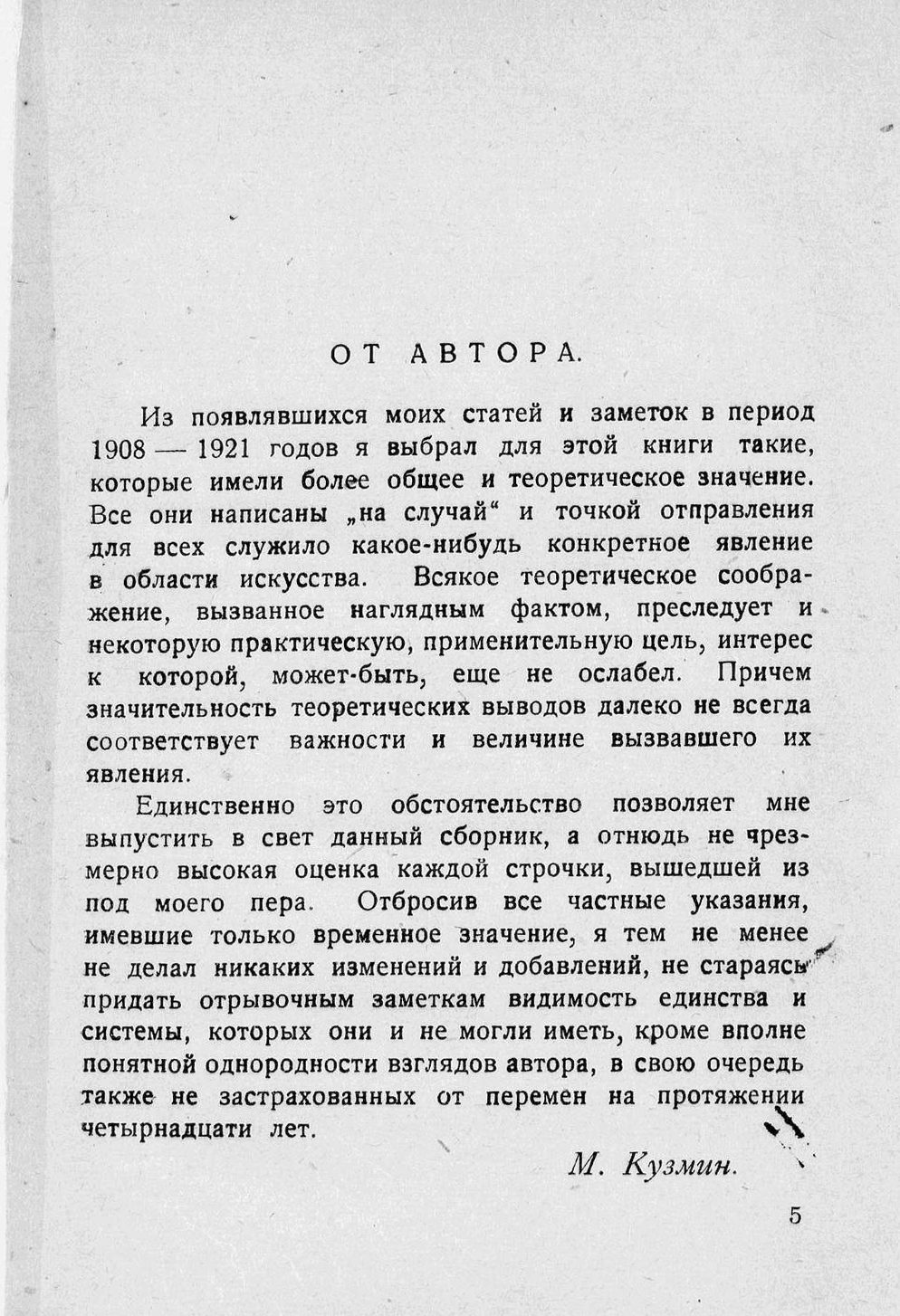 Условности : Статьи об искусстве / М. Кузмин. — Петроград : Полярная звезда, 1923. — 188 с.
Михаил Алексеевич Кузмин (1872—1936) — русский поэт, переводчик, прозаик, композитор.
«Условности» — сборник критических статей Кузмина об искусстве начала 20 века (проза, поэзия, изобразительное искусство, музыка, театр, кино, цирк).
ОТ АВТОРА.
Из появлявшихся моих статей и заметок в период 1908—1921 годов я выбрал для этой книги такие, которые имели более общее и теоретическое значение. Все они написаны „на случай” и точкой отправления для всех служило какое-нибудь конкретное явление в области искусства. Всякое теоретическое соображение, вызванное наглядным фактом, преследует и некоторую практическую, применительную цель, интерес к которой, может быть, еще не ослабел. Причем значительность теоретических выводов далеко не всегда соответствует важности и величине вызвавшего их явления.
Единственно это обстоятельство позволяет мне выпустить в свет данный сборник, а отнюдь не чрезмерно высокая оценка каждой строчки, вышедшей из под моего пера. Отбросив все частные указания, имевшие только временное значение, я тем не менее не делал никаких изменений и добавлений, не стараясь придать отрывочным заметкам видимость единства и системы, которых они и не могли иметь, кроме вполне понятной однородности взглядов автора, в свою очередь также не застрахованных от перемен на протяжении четырнадцати лет.
М. Кузмин.
ВСТУПЛЕНИЕ.
„Современное искусство“. „Высота современных достижений искусства“. Какое завлекательное сочетание слов! Боюсь, не обманчивое ли.
Тогда как развитие точных наук, техники и механики, коренные изменения политических и общественных взаимоотношений неукоснительно протекают во времени и пространстве, освобождение от этих понятий (всегдашняя мечта человечества) можно наблюдать только в области искусства, простейших чувств, исконных движениях духа и анатомическом строении человеческого тела.
Конечно, каждый художник живет во времени и пространстве и потому современен, но интерес и живая ценность его произведений заключается не в этом.
Самоубийственно цепляться за то, от чего хочешь освободиться.
Поезд, поставленный не на свои рельсы, неминуемо сходит с них.
М. Кузмин.
1922 г.
Условности.
I
Едва ли кто в настоящее время открыто согласится с определением „искусство — подражание природе“, или вежливее „искусство — зеркало природы“.
Непрерывные бунты самого же искусства против такого определения уменьшили его ценность, подкопались под его прочность, и оно полиняло в глазах завзятых природолюбцев.
Притом эти три слова („искусство — подражание природе“) предполагают неожиданно такое знание трех определений (искусство — подражание — природа), которое, конечно, значительно менее доступно, нежели с легким сердцем в споре брошенный штамп.
Писать три трактата (да и только ли три, не три ли тысячи триста тридцать три?) об искусстве, о подражании и о природе труднее, чем упрекать в ненатуральности всякое свободное движение искусства, живущего по собственной природе и творящего параллельно природе природной другую свою природу иногда с неисследованными еще законами.
Вспоминаются античные воробьи, склевавшие виноград Апеллеса, восклицание экономного шаха, что на деньги за изображение мула можно было бы купить десяток живых животных, христиане, осужденные на сожжение и использованные для пантомимы „Смерть Геркулеса“, и дальше, менее размашисто, но столь же наивно, настоящие колбасы в театре Антуана, готические стулья Мейнингенцев и пресловутые „сверчки“ Станиславского.
Наивная „всамделишность“, всегда предполагает ограничение и предел. Колбаса настоящая, а кровь из красных чернил, стулья подлинные, а Рим все же в немецком княжестве, сверчок трещит, но актер на самом деле никакого вишневого сада не продает.
Ступив на детский и скользкий путь правдивости, никогда не будешь удовлетворен, а всяческая остановка требований также будет случайна и условна, как самые эти условности.
Я буду говорить пока об условностях театрального искусства, даже об одной его отрасли, как увидят ниже, оставляя в стороне живопись (вопрос правдолюбца: „где же второй глаз у лошади, взятой в профиль?“), музыку (где, пожалуй, естественности уже окончательно нечего делать, ограничившись производством автоматических флейтистов и заводных соловьев, чем так любил забавляться просветительный XVIII век), поэзию, по самой стихотворной и всяческой другой форме не имеющую места в природе, и других Парнасских сестер.
Но определение „искусство — подражание природе“, скомпрометированное, обанкротившееся, отнюдь не сдалось, и для непрерывных нападок на искусство, иногда из его же недр, принимает на себя разные благородные личины. Выбор их и тон зависят от времени и темперамента нападающего. Всякие требования посторонних функций от искусства, кроме свойственных каждому в отдельности, прикрытая ловушка в ту же детскую нелепость.
Требования политические, экономические, исправительные, упреки в несовременности, несоответствии моменту, отсутствии темпа, — все это те же в сущности вздохи о греческих воробьях, обманутых нарисованными ягодами.
Даже, если натуральность рассматривать как следование законам природы (природной), то не следует забывать, что эти условия и законы даже не неизменны, а различны сообразно времени, месту, температуре, характеру и возрасту, а незыблемые законы сведутся к таким общим местам, которыми, пожалуй, не станет заниматься самый завзятый реалист.
Если же существуют различные естественные законы для Севера, Юга, Америки, России, лета, зимы, Васильевского острова, Песков, 1870-х годов и крестовых походов, то почему не сделать их еще у́же и не признать законов Ивана Ивановича Иванова и каждого художника? Многообразие законов ослабляет их обязательность или заставляет признать закон индивидуальный.
Если же мы говорим о природе искусства... Впрочем, это завело бы меня очень далеко, заставило бы говорить о вещах, сейчас очень не модных, вроде богословия и происхождения человечества, что вообще совсем не входит в мои планы. Я же хочу только разобраться в условностях искусства, насколько они условны и необходимы, и начну с самого условного рода театрально-музыкального искусства — оперы.
Конечно, всем вспомнится „Вампука“ и Лев Толстой. Но я буду говорить не о них, а о Моцарте, Лекоке, Обероне, Кармен и разных других приятных, надеюсь, вещах.
ІІ.
Может быть, нет такого искусства, где чувствовалась бы более осязательно условность, как в театре. И там же более всего действуют два врага искусства — натурализм и традиция. Вероятно, это происходит вследствие того, что материалом для театрального искусства служат актеры, т.-е. живые люди, при том же связанные кастовыми и внешними условиями. Я думаю, что выход из боковой двери в то время, как предшественник появлялся из средней, для настоящего актера уже нарушение традиции, сбивающее его с толку,
Я назвал натурализм и традицию — врагами искусства. Определенные более точно это — большие помехи, препятствия на путях театрального искусства. Но, может быть, без этих препятствий не было бы разбега, высоты прыжка. Вообще помехи искусству нестрашны, хотя в каждую данную минуту могут быть очень неприятны. Не стремление ли к излишнему натурализму (все время натурализм, не реализм) довели римский театр до полного одичания? А принцип был (конечно, примененный с наивным цинизмом и с ошеломляющей прямотою) несколько похожий на принцип Художественного театра в Москве. Скрытое, а иногда и открытое желание, чтобы актер, как человек, подходил к данной роли, имел в жизни ее манеры, голос, повадки. Чтобы аристократку изображала аристократка, студент — студента, полковник — полковника и т. д. Принцип, конечно, не художественный, почти противо-театральный.
Римляне, не столь заботившиеся о типах, обратили главное внимание свое на точное воспроизведение катастрофических событий; персонажи, по сценарию долженствовавшие испытать смерть, казнь, мучение, насилие, любовь, опьянение и т. п., должны были в действительности все это испытать. Отыскивались высокие разбойники, осужденные на пытки, чтобы изображать Геркулесов и Прометеев, блудницы в виде Венеры спали с пастухом Анхизом и бледной Дианой ласкали Эндимиона, шумела настоящая вода, трещали суда в морских битвах, заводные орлы взлетывали, предвещая величие, гремел гром, блистала молния, наконец, слово было совсем изгнано, замененное всем понятным жестом, пантомимой. И правда, преступник мог сгореть заживо при публике, блудница не стыдясь отдаваться пастуху, — но говорить, исполнять хотя бы трагедию Сенеки они не, были в состоянии. Потом, даже не требовавшие большого эстетического развития от зрителя пантомимы уступили место цирковым боям и скачкам.
Традиция, считающая выход не из той двери за опасное новшество, при всей своей почтенности, немало вредит свободному развитию искусства. Может быть и справедливо мнение, что только технические осязательные новшества имеют право на признание, а идеология — до известной степени бесплодная словесность и при том всегда похожа на „дышло“, которое по пословице „куда поверни, туда и вышло“? Может быть, завоевание французского романтизма в литературе только в том, что он допустил перенос фразы из одного стиха в другой (enjambement), а все манифесты — только временная шумиха? Может быть, Вагнер не был пророком и реформатором, а просто усилил небывало оркестр и скрыл его от взоров публики?
Выдвинуть сцену, изобрести новый инструмент, устроить систему софитов, определенным манером класть мазки на полотно — все это осязательно и, конечно, важно, но...
Об этом отдельно придется говорить, но теперь не могу не предвосхитить вкратце. Во все времена искусство считалось в упадке, в упадке, следовательно, в опасности. Любители искусства (дилетанты в благороднейшем смысле, но опять особо, особо), видя его в опасности, не могли не почувствовать искреннего желания придти к нему на помощь и спасать его.
Спасать конкретно, не рассуждениями. Придумали „выход из боковой двери“. Какая то комедия обновлена, оживлена. Но новизне свойственно увлечение, увлечение и мечта об универсальности. „Выход из боковой двери“ лекарство и эликсир от всего. И „Гамлет“ рассматривается с точки зрения „выхода из боковой двери“. Кому станет ясно последнее несоответствие возможностей с претензиями, тот может легко откинуть и действительную, местную важность и полезность „выхода из боковой двери“, как всякой технической поправки и изобретательности.
Но речь свою хочу вести я об искусстве сугубо условном и где традиции еще более случайны, нежели во всяком другом, об искусстве, наиболее подвергавшемся нападкам не только со стороны философов вроде Льва Толстого, но и со стороны своих же вожаков, о роде искусства, где с жаром толкуют о придании естественности вещам по существу неестественным, где традиция исполнителей запрещает им делать то, на что они созданы, и в чем их прямая обязанность, и где натурализм и традиции не только лишили нас, но почти сделали невозможным дальнейшее развитие большой и прелестной отрасли этого же искусства.
Я говорю об опере.
Я говорю об опере с диалогами.
Образцы даны нам композиторами не плохими, вроде Гретри, Вебера, Россини, Бизе и Моцарта.
ІІІ.
Рождение наименее естественного рода драматического искусства, разумеется, было несколько искусственным.
Кружок любителей при Мантуанском дворце, влюбленных в античность, стремясь со школьным жаром к более точному воспроизведению греческой трагедии, изобрел особый род представлений, родоначальника оперы. Каждый век имеет свое представление о произведениях прошлого искусства. Восхищаясь или не восхищаясь благозвучностью греческого языка, мы в точности даже не знаем, как его произносили, как он звучал у древних, и уже совершенно бессильны угадать, как сочетали в декламации стихов естественность ударных слогов со стихотворною правильностью долгих и кратких. Мантуанские дилетанты были в праве фантазировать по своему. Они создали чтение нараспев, речитатив, в сопровождении оркестра, изредка прерываемое полуцерковными хорами, медленными танцами „симфониями“ и звукоподражательными инструментальными номерами. Только Монтеверде удалось это бесконечное, бесформенно-унылое псалмодирование сгруппировать во что-то похожее на кусочки мелодии и музыкальных фраз. Говоря об оперных композиторах, я не буду определять степень их талантливости или гениальности, а только разбирать род искусства, ими избранного. Я думаю, не следует повторять, что талантливость, изобретательность и свежесть может проявиться в любой форме.
Стремление к натурализму в воспроизведении древности и к естественной декламации родило наиболее условный вид и музыки и драмы. Рожденный в кабинете род искусства продолжал развиваться камерно, концертно, скоро обратившись в ряд длиннейших арий, соединенных утратившим уже всякий смысл „сухим речитативом“.
Так что в половине XVIII века Карл Гольдони, приехавши в Париж, где сохранились занесенные из Италии античные традиции, мог писать об оперном представлении следующим образом. Отзываясь с похвалой об оркестре и декорациях, он говорил; „Действие начинается; несмотря на близкое место, я не разбираю ни слова; терпение, — я услышу арии, музыка которых, по крайней мере, доставит мне удовольствие. Появляется балет. Я думаю, что акт кончается, ни одной арии. Говорю об этом соседу. Он смеется надо мною, уверяет, что в сценах, что я прослушал, было шесть арий. „Как! — восклицаю я. — Я же не глухой: правда, оркестр все время сопровождал голоса, то тише, то громче, но я все это принял за речитативы“. Через две минуты три действующих лица поют одновременно, это представляет из себя трио, которое я также мог бы смешать с речитативом, — и акт кончается... — Хоры несколько приятнее, в них я узнал псалмы Корелли, Биффи и Аллегри. Только в конце певица, не участвовавшая в драме, поет что-то вроде шаконны (танец) в сопровождении хора и танцев, но и это неожиданное развлечение не сделало оперы более веселой, напоминая скорее гимн, чем песенку“.
А между тем, эта опера могла быть написана Рамо или Люлли. Гольдони, как и Руссо, приписывал это анти-музыкальности французского языка.
Теперь нам кажется непонятным такое объяснение, равно как и не совсем ясна реформа Глюка и отличие его от Рамо и от врага его Пиччини. Интересно, что немецкий композитор чешского происхождения реформировал италианскую оперу, согласно французским принципам. Может быть, художественные войны подстегивают творчество, но для внуков уже лет через 50 делаются совершенно непонятны и оставляют в наследство (кроме произведений данного творчества) какое-нибудь минимальное техническое завоевание.
Но дело в том, что пока Париж артистически раздирался на „Глукистов“ и „Пиччинистов“, незаметно родился и развился новый род оперы.
Явился Гретри. И происхождение, и цели, и средства, и приемы этой оперы, — все было другим. Это дитя площадных представлений, ярмарочных водевилей, пьесы с пением и музыкой и иногда с танцами. О стремлении к античности (хотя и у Гретри есть оперы мифологические, но романтически трактованные) нет и помину; комедии из современной жизни, мещанские драмы, сатира, феерическая фантастика („Гурон“, „Панург“), Восток („Каирский караван"), народная сказка („Рауль-Синяя борода“), история („Петр великий“, „Вильгельм Телль“, „Ричард Львиное Сердце“), ряд водевилей, где ловко сшитая пьеса, живая, то смешная, то трогательная, из современной мещанской жизни, оживлена песенками, ариями, дуэтами, хорами, куплетами, танцами и ансамблями.
Независимо от талантливости Гретри, самый факт появления такого рода искусства был чрезвычайно важен. Для нас, во всяком случае, важнее, живее и занимательнее, чем академический спор о преимуществе „Орфея“ Глука над „Дидоной“ Пиччини.
Естественная декламация решалась сама собою, так как между номерами, которые пелись, актеры просто говорили, ведя комедию, как всякие другие актеры.
Между тем стремление к правдоподобности в таком неправдоподобном явлении, как поющаяся драма, мучило лучших музыкантов. И Вагнер и его последователи с растянутым, часто музыкально бессодержательным и все-таки неестественным речитативом, и Дебюсси с прелестным, но однообразным и унылым псалмодированием, и Мусоргский с натуралистическими попытками в музыке уничтожить музыку („Женитьба“). Ему, как натуралисту, в таком случае нужно было бы просто заставить говорить комедию Гоголя. Даже исполнители, менее всего задумывающиеся о правдивости и т. н. принципах, очевидно, вносят в исполнение и говорок, и жизнь, и вздохи, раз Римский-Корсаков принужден был к некоторым из своих опер сделать генеральское вступление, где он говорит, что никаких таких вольностей не допускает, что всякие отступления, буде они необходимы, укажет сам, и что партии нужно петь и на сцене не суетиться.
Музыкант, отнюдь не принципиальный и не новатор никакой, Массенэ в „Манон Леско“ возобновляет старинный прием „мелодрамы“, т. е. диалогов под музыку, пользуясь, по большей части, внешними обстоятельствами (звуками праздника за сценой, органом в церкви, пением на улице). Прием этот употреблен им раздробленно, вперемежку с пением, иногда даже фраза начинается говорком и продолжается пением.
При исполнении это не всегда (или вернее никогда) незаметно, так как певцы даже на такой минимальный разговор не согласны и всю оперу сплошь поют.
Конечно, этот упорный и, в сущности, тщетный спор об естественном и неестественном, разрешался бы очень просто, если бы этому не мешали актерские традиции и ложно понятое представление о „серьезном“ в искусстве.
IV.
Конечно, можно смотреть на комическую оперу или, как теперь для большей серьезности называют ее, на музыкальную комедию, как на своего рода спектакль с дивертиссементом, как на пьесу, куда вставлены номера для пения и танцев. Думаю, что такой взгляд будет внешен и официален, не говоря уже о том, что он ничего не объясняет.
Комическая опера есть драматическое произведение (и это прежде всего), задуманное и исполненное с точки зрения музыки. Плану и действию комедийному сопутствуют, иногда параллельно, иногда сливаясь, план и действие музыкальное. Закрепляются и углубляются места лирического напряжения, остановки, которые освещают промежуточное действие. По большей части музыка выражает готовность, возможность таких или иных драматических действий, а не само движение. Представляет волшебную связь, магический фон души, без которой внешние драматические жесты остались бы внешними, обездушенными и непонятными.
Она появляется временами, как временами нам только ясна причина и законность развертывающихся перед нашими глазами приключений. Она не принуждена итти шаг-за-шагом за комедией, сопровождать ее в местах, явно не приспособленных к музыке. Она свободна, хотя номера чередуются по музыкальным, даже музыкально-сценическим законам.
Комедия свободно и весело идет, временами останавливаясь, или даже во время действия ухитряясь вдруг показать волшебную причину, внутреннюю законность всей смешной, или трогательной, или потрясающей кутерьмы,
Хотя музыка и изображает поединок (как в „Дон-Жуане“ Моцарта), но пусть шпаги звенят отдельно, оркестра им не нужно, и Реция сумеет убежать из гарема без акомпанемента. Музыка чудесно откроет нам волшебное стечение и столкновение сил души, природы, сердца, которые сделали необходимым этот поединок, этот побег. Так откроет, как не открыть никакими словами, никакими жестами и мимикой. Метафизическое объяснение, оправдание и толкование драматического произведения — вот завидная роль музыки в комической опере.
И диалог непременно должен быть отделен от номеров музыкальных, чтобы не лишать свободы того и другого, чтобы не заставлять волшебницу суетиться и лазать по лестнице, и чтобы стремительную комедию не держать за фалды, не привязывать к ногам ее гири оркестровых созвучий.
Да, пускай говорят, бегут, прячутся под столы, передают записки. Настанет минута, раздвинется какой-то таинственный занавес, зазвучат волшебные (всегда волшебные) звуки оркестра и герои запоют и станет ясно, какая шалая звезда произвела всю эту суматоху, и что таится в сердце, в природе, в небе, что должно производить такие или иные поступки. Иногда же действия, музыкальное и сценическое, идут одновременно, будто полет ласточек отражается в воде или параллельно пощечинам в саду идут какие-то столкновения в облаках, делающие волшебной всю нижнюю арлекинаду.
Конечно, кроме этой главной и необходимой роли, музыка появляется и в чисто формальных местах, где нужны танцы, марши, песенки. Но главная сущность ее участия в сценическом представлении это вскрытие связи событий, выражение лирической напряженности, толкающей к таким или иным поступкам.
Волшебное романтическое значение музыки в театре гениально показано Моцартом, главным образом в четырех его операх: „Свадьба Фигаро“, „Волшебная Флейта“, „Дон-Жуан“ и „Похищение из Сераля“, которые должны были бы быть четвероевангелием каждого оперного театра, и как гениальные произведения и как вечные образцы сценической музыки.
Как это ни странно, но певцы с наименьшей охотой поют Моцарта, уверяя, будто секрет исполнения его опер безвозвратно утерян. Повидимому, утерян только у русских певцов, потому что, не говоря о Германии, и в Италии и в Париже оперы Моцарта идут постоянно. Положим, и в Италии и в Париже часто они подвергаются немилосердным искажениям, но никому и в голову не придет уверять, что исполнять их теперь невозможно.
Ну, а секрет Гретри, Вебера — тоже утерян и сохранился только секрет Верди, Гуно и Чайковского?
Мать всем порокам — леность. Она же заставляет певцов признавать „неисполнимыми“ оперы Штрауса, Равеля, Стравинского, Прокофьева, а не так давно и оперы Вагнера.
А во-вторых, всякий оперный певец почти обидится, если ему напомнить, что он — актер; раз он на сцене, в гриме, в костюме, участвует в спектакле, а не просто издает звуки, то он актер и должен уметь играть и говорить.
Если отказаться от странного, традиционного понятия, что оперный артист не обязан быть актером; отбросить детские легенды о потерянном секрете или неисполнимости опер, которые нам лень разучивать или которые с точки зрения вокальной кажутся невыигрышными, то мы могли бы создать бессмертное классическое ядро репертуара, обновить его прелестными новинками и вызвать к жизни прекраснейшее сценическое искусство оперы с диалогами, где бы свободная музыка пела, не спотыкаясь о натурализм, о волшебной, романтической связи и причинности сценических сплетений.
ОГЛАВЛЕНИЕ.
От автора.. 5
Вступление.. 7
I.
1. Условности .. 11
2. Скороходы истории. 23
3. Рампа героизма.. 25
4. Вскрытая драматургия.. 27
5. Живые люди. 30
6. Красота необходимости... 32
7. Театр новых пьес.. 35
8. Кукольный театр... 38
9. Традиция и инерция... 40
10. Репертуарная лоттерея... 44
II.
1. Орфей. 49
2. Театр неподвижн. действия.. 57
3. Трагедия справедливости. 59
4. „Двенадцатая ночь“... 63
5. „Венецианский купец“. 66
6. Об археологии . 70
7. Счастливый археолог.. 73
8. „Дон Карлос“... 76
9. „Разбойники“... 80
10. „Заговор Фиеско“ . 83
11. „Слуга двух господ“. 87
12. „Царевич Алексей“... 90
13. Россия в иностранцах... 95
14. Студия.. 97
15. Наивные вопросы..103
16. „Гондла“.. 107
17. „Адвокат Пателэн“...109
18. „Иуда“..111
19. „Соломенная шляпка“... 114
20. Н. Ф. Монахов.. 117
III.
1. Дочь площадей.. 125
2. Лекок..128
3. „Малабарская вдова“.. 130
4. Свежие побеги...133
5. „Похищение из Сераля“.136
6. „Cosi fan Tutte“.. 139
7. „Вертер“... 141
8. Чехов и Чайковский.144
IV.
1. Скачущая современность.. 151
2. Мечтатели... 154
3. Говорящие.158
4. Письмо в Пекин..162
5. Голос поэта..169
6. Крылатый гость... 172
7. Эмоциональность и фактура..177
8. К. А. Сомов..180
Примеры страниц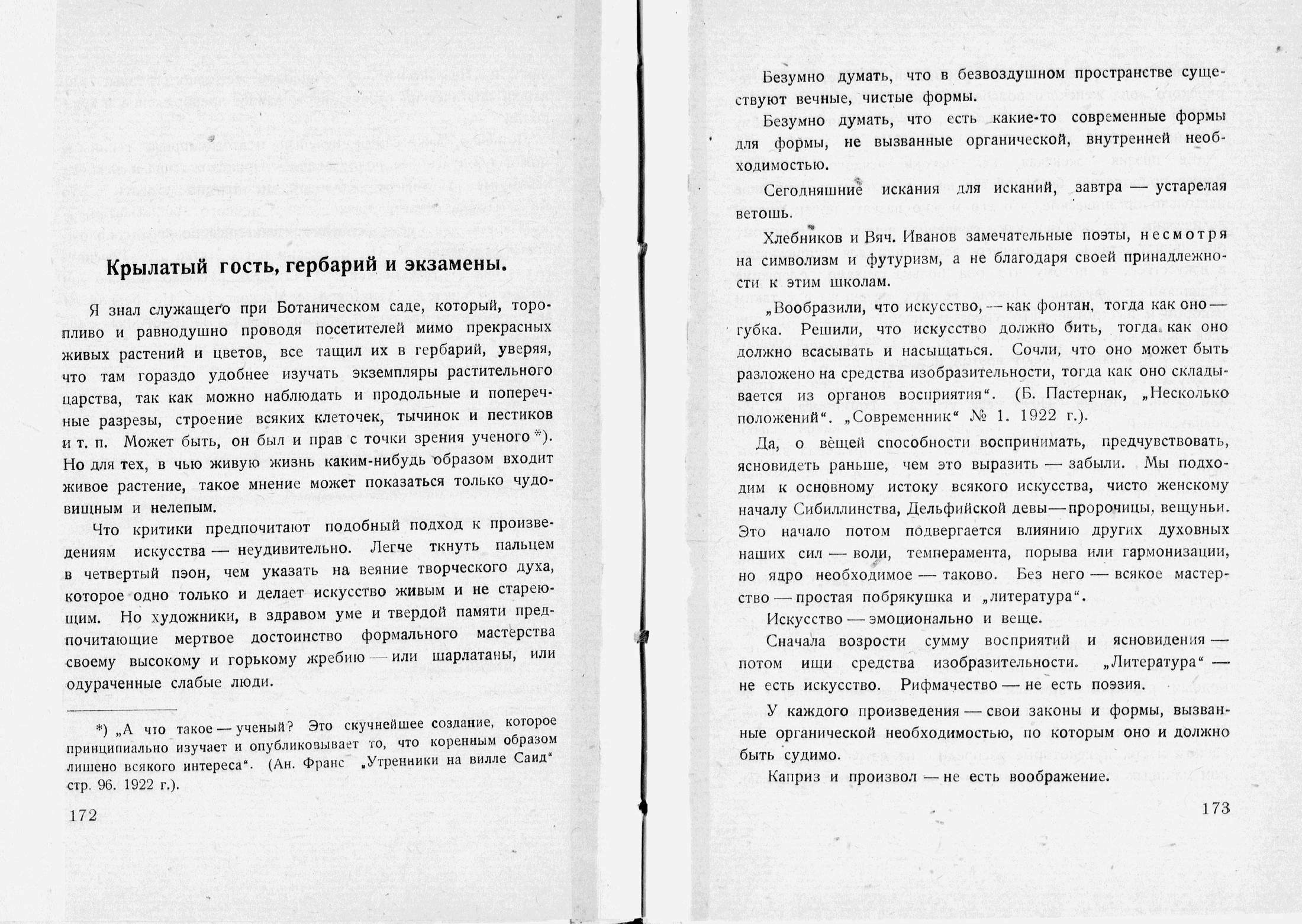 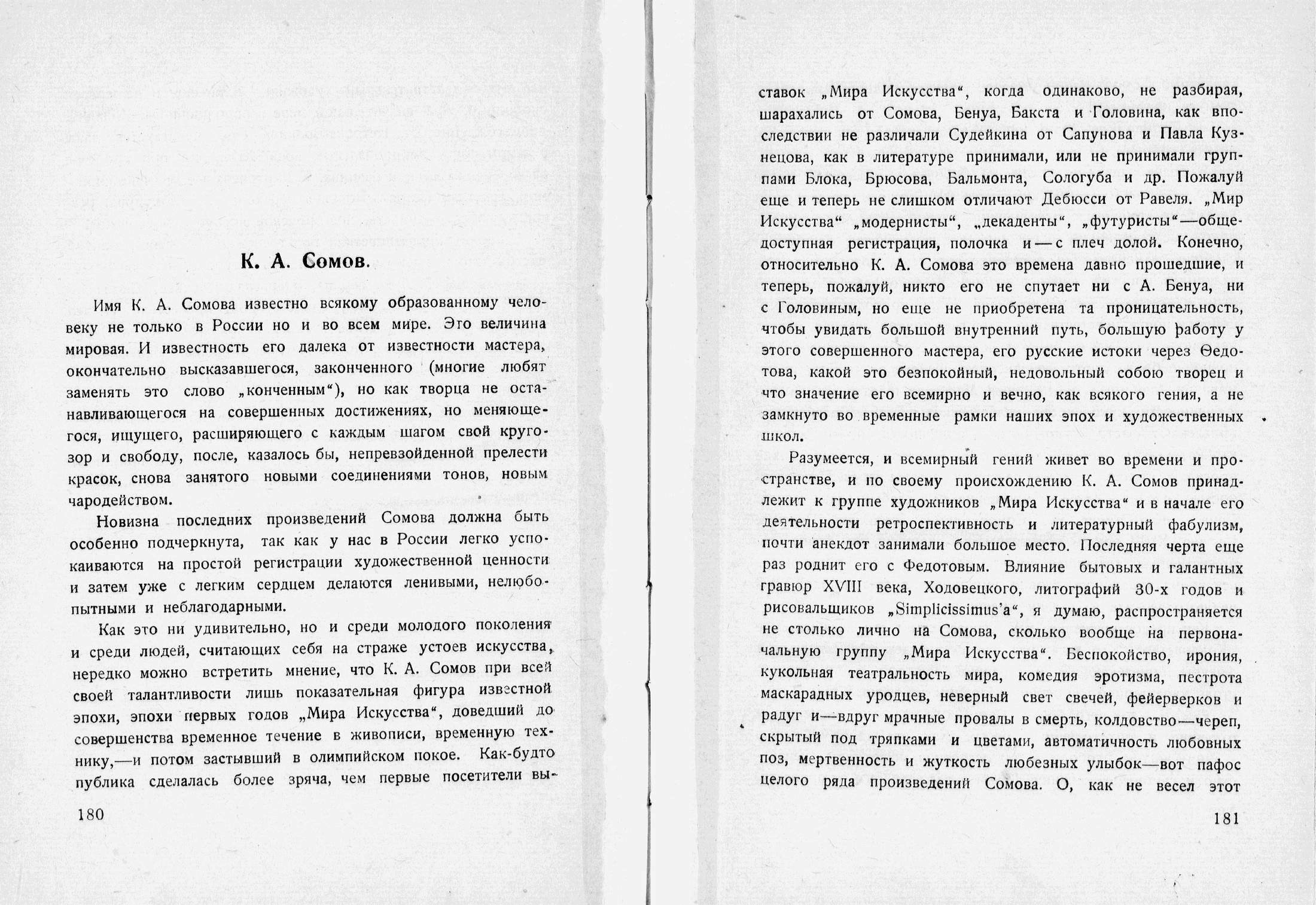
Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 38,4 МБ).
17 декабря 2016, 3:38
0 комментариев
|
Партнёры
|






Комментарии
Добавить комментарий