|
|
Муратов П. П. Живопись Кончаловского. — Москва, 1923 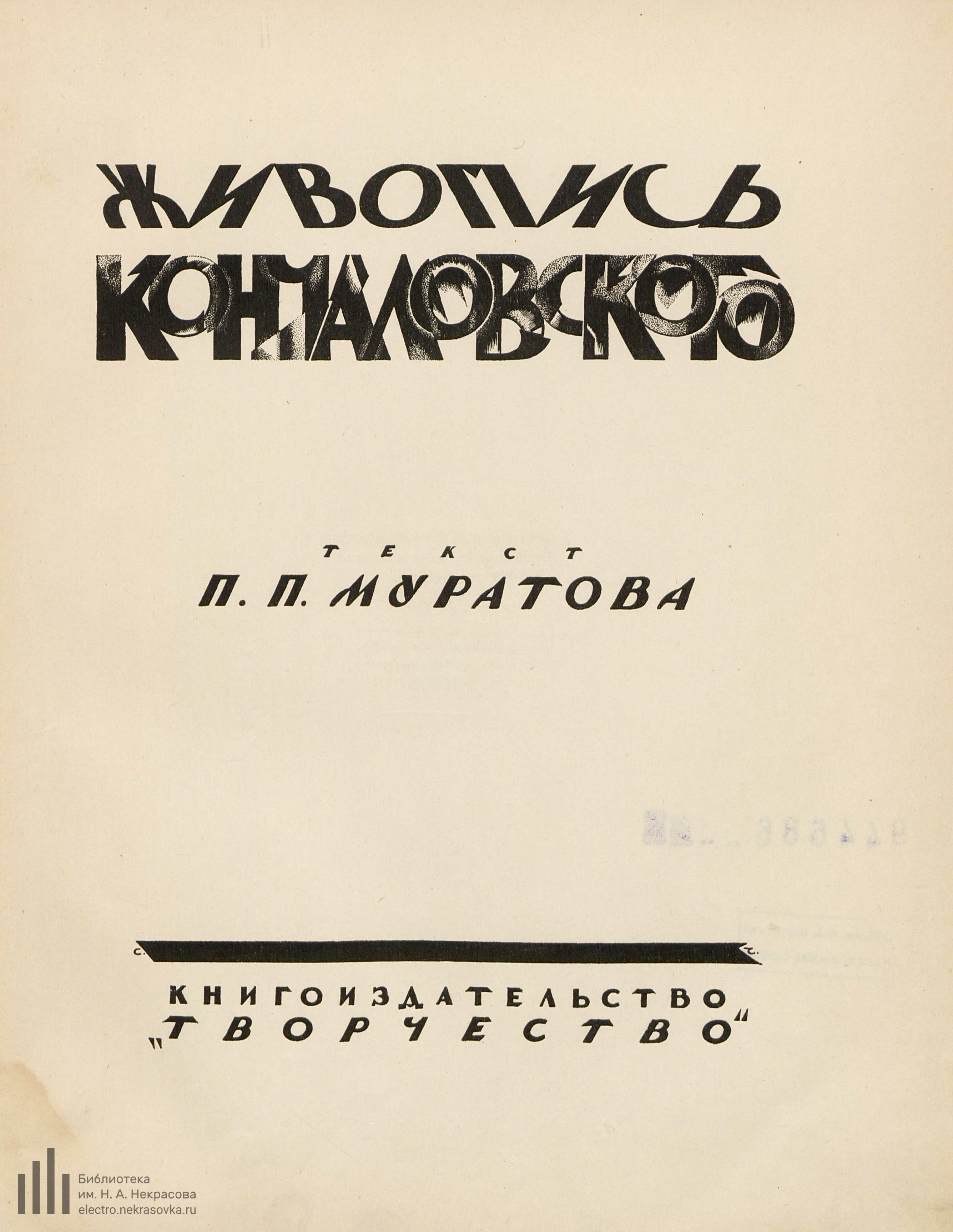 Живопись Кончаловского / Текст П. П. Муратова. — Москва : Книгоиздательство «Творчество», 1923. — 87 с., 8 л. цв. ил. : ил.[Начальный фрагмент текста издания]
I
Желание быть живописцем может естественнее всего прийти утром, когда минует ночь, скрывавшая от глаз формы и краски мира, и когда разомкнет свои оковы сон, державший душу в плену умозрений. Для иных этот сон продолжается и в часы бодрствования: пробуждаясь, они остаются все еще как бы с закрытыми глазами, живя среди бледных форм и бедных красок того видения, каким раз навсегда отразился мир в искажающем и тусклом зеркале их интеллекта. По ребенок, поющий от переполнившей его радости вместе с первым лучом солнца, выделившим и окрасившим предметы, мог бы рассказать нам, если бы только умел, многое о новизне и силе того восприятия, в котором каждое утро раскрывается для него окружающее.
Живописец во всем подобен этому ребенку: самому прямому и непосредственному воздействию вещей, легко разрывающему прочнейшие для других сети понятий и представлений, открыта его душа. В эти особенные минуты он умеет не мысля жить и не помня чувствовать. И если бы ему надо было говорить, он стал бы только петь, лепетать и смеяться, как младенец. Но, к счастью, ему вовсе не нужно говорить. Само его дело, его ремесло проникнуто той захватывающей все чувства вещественностью, которая переполняет его мироощущение. В ломкости угла, в узоре ткани холста, в карандашной пыльце, ложащейся на бумагу, в роскоши краски, вытекшей густо на дерево палитры или на фаянс какой-нибудь заменяющей ее разбитой тарелки, уже есть все то, чем действует на живописца мир и чем будет действовать на нас его живопись.
Пронизываемый во всех своих впечатлениях токами этой первичной и всеобщей материальности, на чем мог бы построить он свои предпочтения? Все в мире одинаково ценно для него, потому что действует с одинаковой силой материального бытия. Уродливый фонарный столб не менее крепко отстаивает свое существование, чем живой ствол лавра, и пивная бутылка удерживает свое место в пространстве не менее настойчиво, чем этрусская ваза. И в кирпичной стене городского предместья разве нет того действительного богатства красок, перед которым померкнут все вымышленные Голконды, и разве не переливаются омытые дождем плиты уличного тротуара подлинными цветами безвестных раковин, спящих на дне морей.
Живописцы издавна смущали всех тех, кто путем умозрений желал вывести понятие прекрасного. Теоретическая эстетика могла спокойно существовать лишь в век неоклассических наивностей. Понимание искусств, расширившееся в живом опыте на протяжении девятнадцатого столетия, раскрыло перед ней бездны одну за другой, куда и обрушились одно за другим все ее построения. Абсолют прекрасного умер вместе с крохотными профессорами эстетики, носившими башмаки с пряжками и цветные жилеты, засыпанные нюхательным табаком. Напрасно утверждали они его в свое время перед краснощекой и серьезной молодежью немецких университетов. Нам пришлось всему переучиваться у людей совсем иного рода и племени, — беспокойного, безрассудного и беспорядочного племени живописцев.
Ряд чудаков, сумасбродов, людей мансарды и богемы, непризнанных гениев, казавшихся современникам одержимыми манией величия и кажущихся нам теперь зачастую подлинными гениями, является на протяжение века, чтобы чуть ли не каждое десятилетие перевертывать вновь все складывающиеся об искусстве представления и ставить в тупик несчастного «среднего человека». От Делакруа до Пикассо, сколько родилось их в таинственной артистической лаборатории Парижа, возникая с такой неожиданностью и нелогичностью, которая опрокидывала, казалось, все представления о разуме и целесообразности истории. Классик Мане явился, например, так внезапно, что не был истинно понят ни одним из своих современников. Музыкально-мечтательный Уистлер принужден был стать в позу боксера и больше прославиться критическими скандалами, нежели колористическими «симфониями». Покупая что-то в голландской мелочной лавке, Клод Моне мимоходом совершил открытие, которого никак не могла сделать вооруженная всем мыслительным аппаратом теоретическая эстетика: не будь покупка его завернута в листы с эстампами Хирошиге, быть может долго еще не было бы понято искусство японцев. И самый страшный из всех реформаторов живописи, Поль Сезан, крупнейший мастер XIX века, влияние которого проникло теперь, кажется, во все уголки европейской цивилизации, был самым тихим, самым далеким от какого бы то ни было учительства, самым преданным своему ремеслу, самым делающим «только для себя» из всех живописцев.
В такой пестроте случайностей и противоречий протекал процесс, казавшийся и еще кажущийся многим болезненным. Но если больными фигурами возникали среди тягостных будней индустриального века иные ухитрявшиеся существовать «наперекор всему» живописцы, то в самом явлении скрыто было великое здоровье. Мы были и остаемся свидетелями настоящего возрождения живописи, и слово «возрождение» имеет здесь смысл более точный и более прямой, чем в применении к искусствам Ренессанса. Возрождающаяся живопись нашего времени, сколько бы ни говорилось о «новом» искусстве, не включает каких-либо существенных элементов, каких не могли бы мы найти у великих «старых» мастеров.
До сих пор мало оценено то зрелище бодрой, серьезной и плодотворной артистической работы, которое являет собой нынешний Париж. Его знают обычно лишь в крайностях, которые легче всего привлекают внимание людей, искусству чужих и праздно в нем любопытствующих. И крайности иных преходящих моментов Пикассо и Дерена, быть может, необходимы, как необходимо доведение опыта до конца, — до того предела, на котором в абсурде познается истина. Но разумеется не в этих крайностях воссоздается структура живописи, и тот, кто как Анри Матисс старался бы только щеголять новизной и необыкновенностью, весьма быстро предается забвению, ибо весьма быстро стареет и становится банальностью всякая нарочитая новизна и необыкновенность.
Можно было бы назвать десятки ныне работающих в Париже живописцев, которые в честности и глубокой искренности своего ремесла, свободного от каких бы то ни было преднамеренных ухищрений, создают не великую, может быть, но несомненную художественную эпоху. Мы еще плохо знаем их имена, но мы узнаем их лучше, когда населятся вещами их наши музеи, и тогда убедимся мы, что эти пейзажи Франции и эти скромные натюрморты выдерживают так же хорошо любое грозное соседство, как выдерживают в Лувре соседство испанцев Мане и близость венецианцев Сезанн. Вся эта полоса живописи ждет не столько критика, толкующего с большим или меньшим остроумием о тех или иных «течениях», которые различает в ней его изобретательность. Она ждет собирателя, любящего живописные достижения той же глубокой любовью, какая движет и стремящимися к ним художниками. Любители старых голландцев, напрасные искатели Шардена и Вермеера, когда оцените вы не менее подлинные живописные сокровища, ожидающие вас в маленьких артистических лавках Парижа и в раскинутых по неожиданнейшим углам его мастерских!..
II
Кончаловский принадлежит как раз к тому разряду живописцев, усилиями которых создается художественное достояние, позволяющее нам глядеть и в прошлое не без некоторого удовлетворения. В Париже он оказался бы естественно в ряду других, в кругу той группы индивидуальностей, которая образует всякую подлинную живописную школу. В России остается он в большей или меньшей степени изолированным.
При всем разнообразии возникших за последние пятнадцать лет художнических групп, течений, кружков, выставок, журналов, программ есть нечто общее и типическое в русском искусстве современности, что невыгодным образом характеризует его. Это — подражательность, легкость и «безоглядность», с которой схватывается каждое последнее слово, литературность, всегда готовая проявиться, дилетантизм, лукаво скрывающий себя, и при всем том какая-то основная, непреодолимая нелюбовь к делу живописи.
Среди русских художников последних лет немногие могли бы быть названы людьми своего ремесла. Остроумие и вкус, высказываемые лучшими из них, имеют все же мало общего с подлинным трудом живописца. В России нет вообще никакой культуры ремесла. Плохо сделаны русские замки и ключи, русские столы и стулья, сапоги и кастрюли, чемоданы и бритвы, зеркала и переплеты книг. На наших улицах люди дурно одеты и дома скверно выстроены. Все мелочи нашего жизненного городского обихода грубо исполнены и лишь приблизительно отвечают своему назначению. Редко ведомо русскому человеку, что такое чистота работы, доделанность ее, доведенность до конца. К исчерпывающему разрешению какого-либо самого скромного задания он не умеет стремиться и не понимает возникающего отсюда наслаждения. В этом смысле никогда не было худших, чем мы, антиподов античности, где хорошо все вещественное, тогда как отталкивающе дурно все вещественное в русской городской жизни и в отравленной ею современной русской деревне.
В такой стране не может быть, разумеется, и культуры живописного ремесла. Не было поколений за поколениями, передающих друг другу традицию художественного труда. И труд этот никем не был признан и ценим сам по себе. Русский художник даже последнего времени слишком всегда переполнен заботой о немедленном результате, достигаемом все равно какими средствами. Он удачно приготовляет нечто имеющее видимость искусства. Поверхностное восприятие успокаивается на этом эфемерном искусстве, не включающем зачастую в себе ни капли ремесла.
Но без важной доли ремесла не может существовать никакое подлинное искусство. Творить — значит прежде всего что-то делать, и тот, кто не умеет делать, не может творить. Тициан и Веласкес были помимо всего прочего делателями картин, профессионалами, ремесленниками, первыми в своем цехе, но братьями все же тех последних ремесленников, которые в их дни писали вывески для венецианских лавок и испанских харчевен. И если им суждено было достигнуть величия, то причиной этому не только их собственный гений, но и незыблемый материк великолепного художественного ремесла, отлагавшийся столетиями, на который могли они твердо встать и прочно опереться.
Художник нашего времени, в особенности русский художник, оказывается в положении гораздо более трудном, почти отчаянном. Голым рождается он на свет Божий, ничего и ни от кого не наследуя. Ему приходится начинать сначала и самому проделывать великий искус и сложный опыт, который в более счастливые для живописи времена являлся врожденным приобретением. Для этого нужно много сил, много любви, много преданности деду. Те, кого не хватает на это, ищут обходных путей, которые быстрее привели бы их к желанному результату: выставки и галлереи наполняют они ловкими суррогатами живописи, каких не знала простодушная старина. Лишь немногие принимаются за работу, ничего не придумывая; к числу этих немногих принадлежит Кончаловский.
Кончаловский являет простое и в то же время редкое для нашей эпохи зрелище живописца за работой. Он предан своему живописному ремеслу, своему делу, не ждет от него каждую минуту немедленных результатов, не мечтает о готовом. Он трудится так, как должен трудиться человек — всем своим существом, не разделяя себя от дела, усилия от отдыха, цеди от средства, работы от жизни. В этом труде не может не быть явлена гармония. Живопись Кончаловского не нема. Нет никакой надобности подводить ей несвоевременные итоги, но она многое скажет нам в осуществлении, год от года и холст от холста. Зрелище живописца в полноте сил и в разгаре работы — иными забытое, иным неведомое, для всех поучительное зрелище.
<...>
Примеры страниц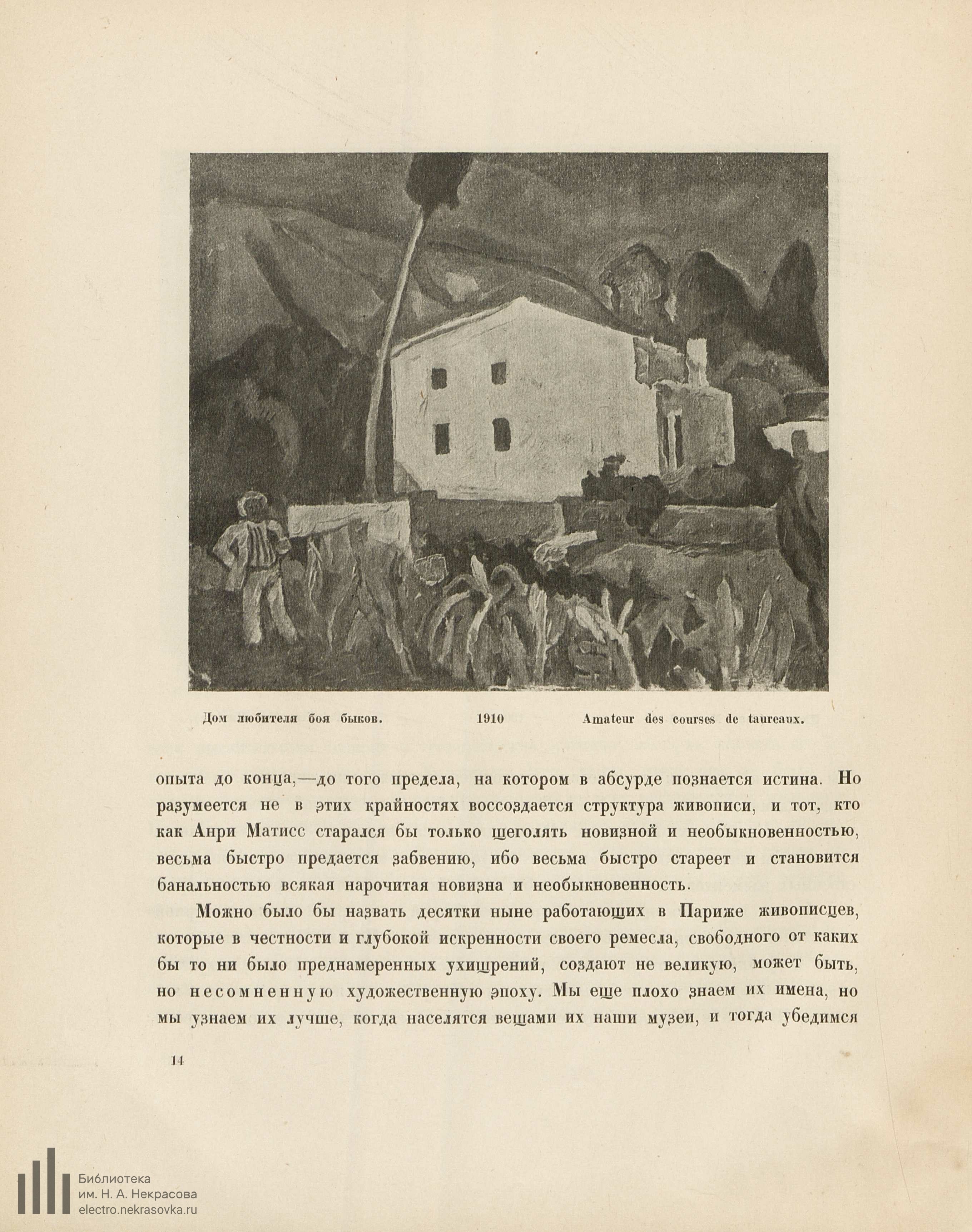 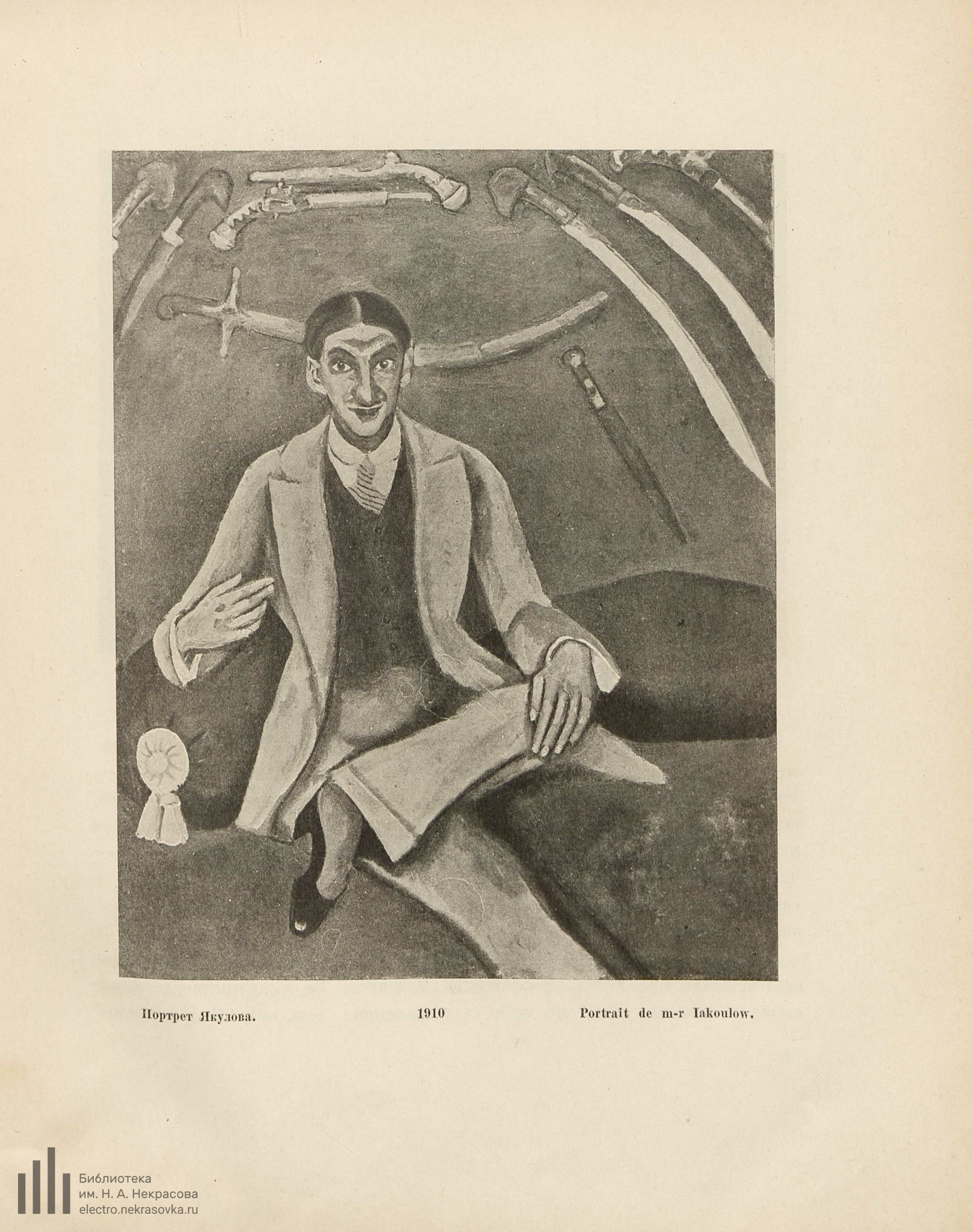  
Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 74,4 МБ).
16 августа 2021, 13:00
0 комментариев
|
Партнёры
|






Комментарии
Добавить комментарий