|
|
Никольский Виктор. В. И. Суриков : Творчество и жизнь. — Москва, 1918В. И. Суриков : Творчество и жизнь / Виктор Никольский. — Москва, 1918. — 152 с., ил.В. И. Суриковъ : Творчество и жизнь / Викторъ Никольскій. — Москва, 1918. — 152 с., ил.От автора
Настоящая книга выходит в свет с техническими недочетами, неустранимыми в условиях переживаемого времени: без достаточного числа иллюстраций, без списка суриковских произведений и указателя литературы о Сурикове.
Но даже и в таком виде книга о Сурикове казалась нам необходимою именно теперь, потому, что в самом имени Сурикова звучит некая радостная надежда, потому что свершенный им подвиг творчества способен ободрять упавших духом, возрождать веру в мощь русской культуры.
Ни на мгновенье не задумался и не остановился на своем пути революционер русской живописи, которому посвящена настоящая книга. Без компромиссов, без уступок, полный веры в себя и свои силы, великим примером прошел пред нами этот богатырь, беспощадный разрушитель старого, вдохновенный строитель и основатель нового искусства.
Москва, апрель 1918 г.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Немеркнущий свет, горящий в созданных суриковскою кистью ликах и образах, непреложно свидетельствует о всем великолепии и богатстве внутренней жизни мастера, о святости его радостного трудового подвига, в котором и заключалась в сущности вся жизнь Сурикова, мало интересная в смысле внешних событий. В его упоительном, пьянящем до самозабвения труде живописца не было и тени той горечи, какою звучит это слово в обычном его смысле. Были, конечно, шипы и тернии, но они не наносили жгучих ран. Быстро забывались их уколы в том нескончаемом празднестве красоты, которое вечно созерцали жадные очи художника. И в самых каплях крови видели эти очи не страдание, не боль человеческую, а красоту самоцветных камней, влажный блеск драгоценного рубина.
От этого внутреннего, духовного обилия жизни Сурикова, от ее насыщенности богатейшими дарами человеческого духа, исходит скудость внешних биографических событий, этим душевным богатством внушена молчаливая замкнутость суриковской натуры.
Суриков происходил из древнего казачьего рода, вместе с Ермаком ушедшего с родного Дона покорять Сибирь и осевшего на берегах Енисея.
В чрезвычайно скромном Сурикове таилась, однако, какая-то милая, хочется сказать, святая гордость своим родом. Можно было писать что угодно про его картины, подвергать их самой близорукой и беспощадной критике, извращая все намерения и задачи художника: он не обмолвился бы и словом протеста, быть может, и не подумал бы даже о поправке, о восстановлении истины. Но стоило допустить неточность в объяснении происхождения Сурикова, как он торопливо выступал в защиту правды.
Когда, в 1881 г., Н. Александров, посвящая в своем „Художественном Журнале“ целую статью первой картине Сурикова „Утро стрелецкой казни“, обмолвился, будто род Сурикова идет „от ссыльных стрельцов“, художник немедленно внес поправку и в следующей же книжке „Художественного Журнала“ появилась заметка, что „род В. Сурикова происходит не от стрельцов, а просто от казаков, которые жили в Красноярске, в казацкой слободе“.
Через двадцать лет эта ошибка снова была повторена в „Журнале Для Всех“, и Суриков напечатал в этом журнале целую генеалогическую справку о своем роде. „Меня почему-то считают потомком ссыльных стрельцов. Хотя это и очень романтично, но правды нет“, писал Суриков, собравший в доказательство происхождения своего рода послужные списки предков.
„Со всех сторон я — природный казак“, с чувством удовлетворения пишет художник в конце своей генеалогической справки и не без гордости добавляет: „мое казачество более чем 200-летнее”.
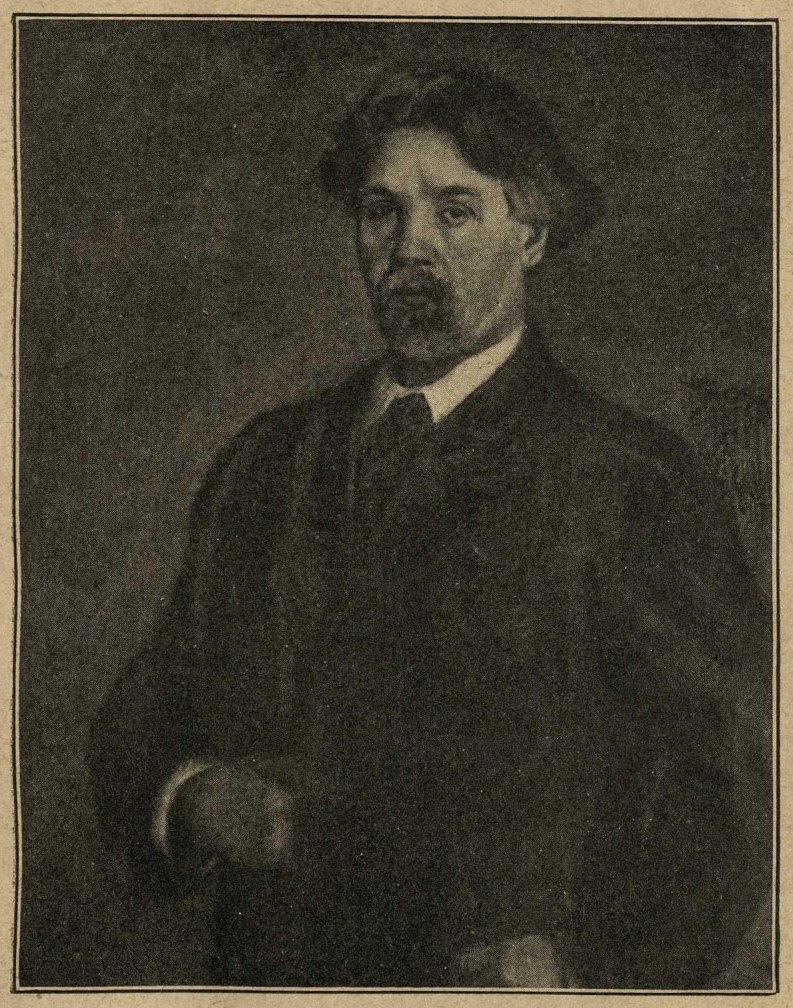
В. И. Суриков. (Автопортрет).
Когда автор этих строк был занят составлением краткой биографии Сурикова, последний снова подчеркнул свое казачье происхождение. „Род мой казачий, очень древний, — писал он в одном из писем. — Уже в конце 17 столетия упоминается наше имя (история Красноярского бунта в 1695 году) и до середины 19 столетия были простые казаки, а с 30 годов прошлого столетия был один атаман и многие сотники и есаулы“.
Эта любовь к своему роду, гордость демократичностью происхождения очень характерна именно для такого художника, как Суриков, с его постоянным стремлением к народной жизни, с его любовным исканием чисто-русских типов, будь то буйные стрельцы, Божьи страннички и странницы, удалые покорители Сибири, суворовские чудо-богатыри или беззаботная разиновщина.
Итак, Суриков, казак от головы до пят. Казак крепкой породы, в жилах которой и теперь еще не иссяк бурный родник сил, гнавших когда-то донцов и в снеговую Сибирь, и к турскому султану, и в разиновские шайки.
От этих далеких своих предков, словно изсеченных из гранита, полумифических для нашего нищего духом времени, унаследовал Суриков волю закаленной стали, пламенную любовь к свободе, тонкий юмор и клокотанье страстей, тщательно прикрытые сурово-добродушным, грубоватым тоном речи. Оттуда же вышла острота сверлящего, жуткого взгляда маленьких глаз, неожиданно сыпавших радостно-детские искры при вспышке веселья, и весь коренастый, приземистый и такой бесконечно русский облик художника. Из той же могучей сокровищницы, взлелеянной на берегах двух великих рек, одарила Сурикова природа и редчайшим из своих даров — даром прозрения в самые глубины народной души, даром ясновидения, стирающим границы веков, открывающим в людях сегодняшнего дня и душу и даже внешний облик самых далеких их предков. Наделила его природа и своим волшебным жезлом, таинственно воспламеняющим в творении рук человеческих огонь вечной жизни, для которой целые века проносятся с легким треском часового маятника, отбивающего секунды.
Родился Василий Иванович в Красноярске, в отцовском доме, 12-го января 1848 года и крещен был в церкви Всех святых.
„В подполье суриковского дома хранилось немало книг, переходивших от поколения к поколению. Один из дядей Сурикова довольно искусно рисовал, а другой писал стихи, отец также любил рисовать“, передает С. Глаголь рассказы Сурикова о своем детстве.
Вскоре после рождения Сурикова, в 1854 г., его отец был переведен по службе за шестьдесят верст от города в Бузимскую станицу и там, в деревенской обстановке, промчалось первое десятилетие суриковской жизни, полной отчаянных деревенских забав. Близость тайги и полудикая обстановка сибирской жизни с ее героическим размахом во всем только подзадоривали детскую изобретательность и внушали бесконечные „подвиги“.
Суриков любил рассказывать про свое детство, и биографы записали немало таких рассказов, интересных для характеристики Сурикова — человека.
Из этих рассказов известно, что восьмилетним мальчиком Суриков был послан учиться в уездное красноярское училище, пытался убежать из школы домой, но потом примирился и, окончив курс с „отличными успехами“, перешел в открывшуюся в Красноярске гимназию. Смерть отца в 1859 году и нужда в деньгах не дали, однако, возможности юноше окончить гимназический курс.
Но одни классы и уроки не могли, конечно, заполнить жизни. В часы досуга много забав доставляла Сурикову и тайга, где приходилось встречаться с медведями, и особенно широкий Енисей, с его рыбными ловлями, охотами на диких гусей, состязаниями в плавании. В ходу были и кулачные бои гимназистов с семинаристами или тех и других с казачатами. Из окон гимназии приходилось видеть и торговые казни: эшафоты, палачей, жадную толпу.
На все находилось время у юноши. Но не забывал он и подполья отцовского дома с его книжными сокровищами и гимназической библиотеки. Любовь к истории и историческому чтению уже в ту пору охватила Сурикова и не оставляла его до последних дней.
— Ничего нет интереснее истории. Только читая историю, понимаешь настоящее, — говорил он в зрелые годы.
Многие русские школьники проявляют большой интерес к истории, но суриковский интерес был исключительным. Он не только любил историю — он буквально жил в истории, пропитал свое воображение и наполнил память историческими событиями. Для Сурикова всюду была история, в реальнейших формах действительности ему грезились облики людей далекого прошлого.
И в записанных М. Волошиным, Я. Тепиным и С. Глаголем рассказах Сурикова о своем детстве, на каждом шагу видно, как властно владели юною душою исторические события, как таинственно хранились в его мозгу видения прошлого, более живые и яркие, чем сама жизнь.
Затевается детская битва среди высоких зимних сугробов красноярских улиц, в снеговых крепостях-городках, а ведущему в бой товарищей Сурикову грезятся никогда им невиданные, страшно далекие и чужие всему казачьему быту спартанские воины в Фермопилах. Спасаясь с товарищами от напавших на них казачат и спрятавшись у кого-то на дворе, вслушивается Суриков в топот ног и крики бегущих мимо преследователей и снова пред ним историческая картина: боярин Артамон Матвеев, схоронившийся от ищущих его мятежных стрельцов и вслушивающийся в этот проносящийся мимо топот стрелецких сапогов. „Увидав ночью на снегу убитого красавца-товарища“ мгновенно видит Суриков сцену угличского злодейства — убиенного царевича Димитрия.
История живет вокруг него — на занесенных снегами красноярских улицах, среди кряжистых деревянных домов, строенных по стародавним образцам, сама собою воскресает во всякий момент и овладевает его воображением.
Немало времени проводил юный Суриков и в богатом доме родственников своей матери Торгошиных, строенном на старозаветный лад со всякими переходами, крыльцами и слюдяными оконцами. В этом доме и жили по прадедовским заветам: мужчины по праздникам рядились в китайские шелковые халаты и разгуливали в обнимку по улицам, а их дочери, по суриковскому выражению, „совсем такие, как в былинах поется про двенадцать сестер“, водили хороводы. Девятнадцатый век словно и не наступал еще для обитателей Торгошинского дома, они все еще жили в эпоху Московской Руси.
И то, чего не давали и не могли дать Сурикову исторические книги, ему открывала живая действительность, неумиравшее наше прошлое в самом Красноярске и Торгошинской станице. Лучшей обстановки для проникновения в дух русской истории нельзя было бы и придумать, лучшей школы для будущего исторического живописца не могло и существовать. Вот почему особенно глубокою правдой звучит фраза суриковского письма: „идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства“.
Рисовать Суриков начал с малых лет, „на стульях сафьяновых рисовал — пачкал, как он сам говорил, и рисовал постоянно, с особою любовью и почти все, что попадалось на глаза. А попадалось ему на глаза, кроме живой натуры, очень и очень немногое. В Красноярске не было ни художников, ни хороших картин, и оригиналами для копирования в большинстве случаев могли служить лишь убогие гравюры русских журналов пятидесятых годов. Даже в гимназии было не очень богато по части оригиналов. Но Суриков упорно работал карандашом и акварелью и даже стал известен как местный художник.
Как ни плохо было в гимназии по части рисования, но нашелся в ней человек, обративший серьезное внимание на Сурикова — это был именно учитель рисования Николай Васильевич Гребнев. „Он в юности моей горячо желал, чтобы я шел дальше и ехал в Академию“, — писал о Гребневе Суриков.
И мало-помалу мысль о поездке в Петроград, в Академию овладевает Суриковым. Немногие сочувствуют этой мысли в разгар движения шестидесятых годов, но Суриков не умеет отступать и отказываться. Его рисунки с классических оригиналов Тициана и Рафаэля попали на глаза енисейскому губернатору Замятину. Он захотел определить юношу в Академию и послал туда суриковские рисунки, но Академия отказалась принять Сурикова в казеннокоштные ученики.
Первый удар не поколебал решимости сибиряка. С мечтою об искусстве он оставил гимназию и поступил на службу в какую-то красноярскую канцелярию. Под скрип перьев, изо дня в день, упорно лелеет Суриков свою мечту — добраться до Петрограда, до Академии. Он готов итти туда хоть с сибирскими обозами, лишь бы добиться своего. Случай и добрые люди приходят ему на помощь.
„Слух обо мне дошел до известного сибирского золотопромышленника П. И. Кузнецова, который и помог мне добраться до Академии“, писал Суриков. Кузнецов посылал в Петроград обоз рыбы и 11 декабря 1868 г. упрямый красноярец, с папкой юношеских рисунков под мышкой и непреклонною волей в груди, оставил родину.
Негостеприимно встретили юношу академические профессора в апреле 1869 года. Похихикали над лучшими из его рисунков и потребовали „узаконенных“ гипсовых фигур. Двери Академии во второй раз гулко захлопнулись перед сибиряком. „Академик Бруни не велел меня в Академию принимать“, рассказывал впоследствии Суриков М. Волошину.
Но сибиряк был одарен упорством гения, здоровым, высшим упорством, создаваемым лишь непреодолимою, великою верой в самого себя, в свою правоту и свои силы. Суриков пошел изучать гипсы в рисовальную школу общества поощрения художеств. В архивах школы не сохранилось, к сожалению, никаких документов об успехах Сурикова, но из разобранных А. Ростиславовым документов академического архива видно, что осенью 1869 года Суриков был зачислен вольнослушателем Академии.
Академические профессора, проглядевшие, по обыкновению и по „уставу“, суриковский талант в его сибирских рисунках, едва ли почувствовали, как тонко посмеялась над ними судьба, когда Суриков проявил в Академии блестящие успехи. Через год, занявшись „по наукам“ и сдав экзамены, Суриков превратился из вольнослушателя в ученика натурного класса. В течение пяти лет, получая одну за другой медали, казенные стипендии и денежные премии, Суриков прошел весь курс академической мудрости.
Его профессорами были всем известные учителя большинства современных Сурикову художников. „Шамшин, Виллевальд, Чистяков, Бруни, Иордан, Вениг, Нефф“, в таком порядке перечисляет их сам Суриков в одном из писем.
Самые светлые воспоминания оставил у Сурикова профессор Чистяков, едва ли не единственная живая душа в сонме академических олимпийцев. Как Врубелю и Серову, с любовью вспоминавшим чистяковские заветы, так и Сурикову крепко запомнился один из этих заветов. „Будет просто, как попишешь раз со сто“, любил повторять Суриков чистяковскую фразу, добиваясь красноречивой простоты формы.
Работал Суриков в Академии очень усердно, хотя работа не прекращалась и вне стен школы, на улицах, где художник в особенности „группировку людей наблюдал“.
Из суриковских работ первой академической поры в собрании И. Е. Цветкова хранится помеченный 1871 г. карандашный рисунок „Под дождем в дилижансе на Черную речку“, напоминающий по манере бытовые рисунки молодого В. Васнецова. В 1871 году на академическую выставку Суриков дал городской пейзаж: „Вид памятника Петра на Адмиралтейской площади“. Его купил покровитель Сурикова П. И. Кузнецов и подарил Красноярскому музею.
В 1873 году Академия награждает Сурикова не только тремя серебряными медалями, но и стипендией, первоначально в 120, а затем в 350 рублей ежегодно.
В 1874 г. Суриков кончает научные курсы и получает малую золотую медаль за картину на евангельский сюжет, „Милосердие самарянина“ (Красноярский музей), еще совершенно академическую по композиции, но уже выполненную в сильных и звучных красках. Врожденный талант живописца, чутье к колориту одержало здесь первую победу над слащавою академическою раскраской.
К той же эпохе относится композиционный эскиз „Пир Валтассара“ („Падение Вавилона“), о котором говорят А. Бенуа и П. Гнедич.
„Это юношеское произведение Сурикова, правда, сильно смахивает на французские исторические „машины“, но от него все же получается приятное впечатление, до того бойко и весело оно написано, до того непринужденно, бесцеремонно, поистине „художественно“ оно задумано“, пишет Бенуа в своей „Истории русской живописи“ про этот эскиз, висевший в зале композиционного класса Академии. „Среди чопорного молчания этой залы, пестрые, весело набросанные краски эскиза Сурикова звучали, как здоровый, приятный, бодрящий смех. Академические юноши, толпившиеся здесь перед вечерними классами и с завистью изучавшие штриховку Венига, округлые фигуры и фееричный свет Семирадского, искренно любовались и наслаждались одним Суриковым, впрочем, для проформы констатируя дурной рисунок и небрежность мазни этого эскиза“.
Уже и в ту пору, в годы ученичества, Суриков со своими чисто живописными стремлениями к яркости колорита был в значительной мере чужаком для большинства академических профессоров, на первое место выдвигавших, по обычаю, рисунок, а не красочное пятно. Уже тогда, увлеченный и зачарованный красотою оперения Божьего мира, он отводил первое место краскам, колориту, быстрыми мазками кисти стремясь вылепить форму, не раболепствуя перед графикой.

Красноярск.
Пред юным художником словно открывались уже горизонты нового искусства, с его стремлениями упростить рисунок, свести его к нескольким характерным синтетическим штрихам, не отвлекающим внимания от того пышного празднества красок, каким должна быть живопись по самой своей природе, по точному смыслу своего названия.
Интересно отметить, что в академическую пору воображение Сурикова сильно увлекал античный мир, и он не только мечтал об изучении памятников на месте, но даже создавал эскизы будущих картин, к числу которых принадлежит находящийся у семьи черновой набросок „Клеопатры“: бойкий рисунок карандашом с акварельной расцветкой.
Хранящийся в музее Академии Художеств карандашный рисунок Сурикова „Борьба добрых духов со злыми, помеченный последним годом его пребывания в академических стенах — 1875, был награжден сторублевой премией. В этом рисунке Суриков находился под явным влиянием Микель-Анджело, набрасывая в сложных ракурсах мощные тела низвергаемых в бездну злых духов.
Для Сурикова и его товарищей по выпуску, художников Бодаревского, Загорского и Творожникова, настало, наконец, время конкурса. Академический совет изобрел для этого случая чрезвычайно сложный сюжет: „Апостол Павел, объясняющий догматы христианства перед Иродом-Агриппой, сестрой его Береникой и римским проконсулом Фестом“.
Из церковной истории известно, что апостол Павел был арестован по обвинению в несоблюдении законов иудейской веры. Дело это затянулось на целые годы, пока апостол не потребовал представления его дела на суд самому императору. Тогда римский проконсул Кесарии Фест предложил посетившему его царю Иудеи и его сестре Беренике ознакомиться с находившимся в производстве делом Павла, вследствие чего апостол был призван к Фесту для объяснений. Сцену этих объяснений и должны были запечатлеть конкуренты.
Суриков воспользовался этим воистину академическим сюжетом довольно своеобразно. Задание давало художнику полную возможность ограничиться всего четырьмя фигурами действующих лиц. Будущий художник толпы, поэт „хорового“ начала истории обратил сцену объяснения в подлинный суд, изобразил и группу римских воинов с ликтором во главе, и взволнованных проповедью апостола евреев, и даже римского чиновника, записывающего пламенные речи Павла.
31 октября 1875 года совет Академии присудил Сурикову и трем его товарищам по конкурсу звания классных художников первой степени, но никому из них не выдал большой золотой медали и тем лишил права на заграничную командировку.
Конкурс 1875 года вообще был не вполне благополучен. Его подлинная история пока недостаточно ясна еще, но есть основания предполагать, что отказ академического совета в выдаче медалей был продиктован не только финансовыми соображениями, в виду оскудения академической кассы, но и волею высших руководителей академическими делами и, главным образом, великого князя Владимира Александровича, в особенности недовольного Суриковым потому, что юный художник не проявил должного уважения при посещении великим князем мастерских конкурентов.
Крутой и своенравный юноша был очень обижен этою несправедливостью, этим „прятанием в карман моей заграничной командировки“, как он сам выражался.
Но обстоятельства неожиданно изменились. Академический совет, вынужденный оставить Сурикова без заграничной поездки, тем не менее вступился за своего питомца и по собственной инициативе возбудил вопрос о предоставлении Сурикову, в виде исключения из правил, заграничной командировки на два года, как талантливому и „достойному поощрения“ художнику. Переписка о командировке увенчалась успехом и министерством двора Сурикову было ассигновано 800 червонцев на поездку. Однако, он категорически отказался от командировки за границу и просил дать ему, вместо этого, работу по росписи храма Спасителя в Москве.
Удивленный и обиженный совет Академии согласился и предоставил Сурикову мастерскую при Академии для выполнения картонов полученного им первого и единственного за всю жизнь заказа: написать для московского храма четыре картины: „Первый, Второй, Третий и Четвертый Вселенские соборы“. Масляные эскизы к этим картинам хранятся в академическом музее.
Запутанность и неясность в самой истории с конкурсом 1875 года и предоставлением Сурикову экстренной заграничной командировки не дают возможности точно установить причины отказа молодого художника от поездки за границу, бывшей неизменною мечтою всех академистов, а в особенности Сурикова, много думавшего о разработке в живописи сюжетов античной истории.
Как бы там ни было, Суриков не только никогда не раскаивался впоследствии в своем отказе, но определенно считал, что „отлично сделал. Приехавши в Москву, этот центр русской народной жизни, я сразу стал на свой путь“ (письмо 1909 года). „А для того, чтобы меня за границу послать, как полагалось, денег и не хватило. И слава Богу! Ведь у меня какая мысль была: Клеопатру Египетскую написать. Ведь что бы со мной было“, — говорил он М. Волошину.
Так завершились для Сурикова годы академической дисциплины. Но и первые его шаги на поприще свободного творчества были еще скованы специальными требованиями. Если беден был сюжет суриковской программы, предписывавший изображать лишенный не только всякого драматизма, но даже и внешней занимательности мелкий факт церковной истории, то сюжеты Вселенских соборов оказались еще беднее, по независевшим от художников причинам. Им предстояло воплотить заключительные моменты соборов, сцены чтения соборных постановлений, но, по приказу церковных властей, художники не могли при этом изображать еретиков, ереси которых именно и служили поводами для созыва соборов. Это специальное требование окончательно обесцвечивало и без того не богатые сюжеты.
„Работать для храма Спасителя было трудно“, признавался впоследствии сам художник, мечтавший „живых лиц ввести“ в церковную живопись, даже искавший „греков“, но услыхавший ответ на свои искания правды: „если так будете писать — нам не нужно”.
Пришлось поневоле писать так, „как нужно“. Надо сказать, однако, что при всем этом суриковские композиции оставляют за собою не только аналогичные работы Творожникова, но и всю вообще стенную живопись храма Спасителя.
Наиболее удался художнику Первый собор с красноречивою фигурой архидиакона Афанасия, впоследствии св. Афанасия Великого, читающего грозный приговор над учением Ария. Во втором соборе выразительно исполненное смирения старческое лицо св. Григория Богослова, произносящего приговор над ересью Македония. В этой композиции особенно интересна по жизненности фигура мальчика с патриаршим жезлом, выглядывающего из-за Григория Богослова, и величавое лицо старца в левом углу картины. Композиция Третьего собора в общем напоминает композицию Первого собора в перевернутом справа налево виде. Четвертый собор — наиболее неудачен, хотя отдельные головы заседающих отцов Церкви в левом углу картины все же достаточно выразительны.
О живописных качествах этих картин нет возможности говорить, так как краски их давно потускнели, покрылись каким-то мертвенным пыльным налетом, да и размещены эти громадные, по 28 квадратных аршин каждая, картины в полутемном и узком проходе на хорах, так что их в сущности неоткуда и смотреть.
„Вселенские соборы“ создавались, собственно говоря, в одно время с „Утром стрелецкой казни“.
Одновременно с углублением в трагизм этого жестокого столкновения грядущей России со старою, обреченною на гибель Русью, Суриков, с головою, полною своими стрельцами, взбирался на леса обетного московского храма и воплощал священные лики отцов Церкви, писал „Вселенские соборы“. Каким же, казалось бы, необъяснимым путем могла одна и та же кисть в одно и то же время создавать образы, разрушающие друг друга?
Загадка вскрывается сама собою, если оставить в стороне поиски литературного содержания в произведениях живописи, закрыть глаза на их идейность и начать рассматривать картины, как произведения исключительно живописные, как решения поставленных художником задач чисто живописного порядка.
Кого не удивляло бесконечное разнообразие сюжетов на полотнах Тициана, Рубенса, Микель-Анджело, Рембрандта и других титанов живописи? Одна и та же насыщенная ликующею радостью плоти кисть Рубенса создавала чувственнейшие вакханалии, опьяняющие одним своим видом, и такие звучащие надрывною печалью Реквиема произведения, как „Снятие со креста“. Сладострастные „Данаи“ Тициана создавались одною рукою со святейшим „Положением во гроб“. История великой живописи полна таких параллелей, таких загадок, и все они решаются одинаково, все эти кажущиеся противоречия примиряются в одном великом слове — живопись.
Мы не совсем отвыкли еще подходить к картинам с приемами литературной критики, слишком большое значение придаем еще „словесности“ их сюжетов, их видимому психологическому содержанию. Давно примирившись с тем, что под видом „Брака в Кане Галилейской“ Тинторетто просто изображает современную ему толпу за столом, мы не потрудились сделать выводов из этого заключения. Снисходительно прощая великому венецианцу этот „каприз“ его гения, мы отнюдь не намерены делать подобных поблажек художникам современности и готовы признавать достойными звания серьезной живописи только те картины, в которых совершенство внешней формы отвечает литературной значительности сюжета. На этом выросло передвижничество, этого требовала и теперь еще подчас требует художественная критика.
Между тем подлинная великая живопись заключается вовсе не в идейном содержании картины. С точки зрения подлинной живописи важна не психологическая схема сюжета, а только живописная содержательность картины, только ценность решения проблем света, цвета, объемов, поставленных художником и, быть может, даже совершенно случайно включенных в рамки определенного психологического сюжета. И эта случайность внешнего костюмно-психологического содержания картины отнюдь не может умалить художественных достоинств произведения. Крамской рассказывает в своих письмах, как ему захотелось изобразить человека, пришедшего на великое распутье своей жизни и крепко задумавшегося над вопросом: как быть дальше, что делать, по какому пути идти. Образ „Христа в пустыне“ показался ему лучшим, идеальнейшим сюжетом для выражения его творческой воли. А Виктор Васнецов выразил ту же идею в своем „Витязе на распутье“ пред камнем с известной надписью: „вправо ехати... влево ехати“. Но и тот и другой, искали формы для выражения определенной литературной идеи. Когда же пред Манэ встала чисто-живописная задача: изобразить обнаженное женское тело на фоне солнечного пейзажа, подчеркнув эту розово-зеленую гармонию красок звучными аккордами черного, он не задумался изобразить свой прославленный „Завтрак на траве“ и посадить обнаженную женщину среди бела дня рядом с одетыми мужчинами. Это, конечно, крайность, подчеркнутое презрение к психологизму сюжета, но и много веков раньше, руководимый тем же живописным замыслом Джиорджоне заставлял в своем „Сельском концерте“ двух обнаженных женщин играть с одетым мужчиной, а Рубенс сажал на колени разряженной Елены Фурман совершенно голого ребенка. И эта психологическая „бессмыслица“, повергая, быть может, в недоумение некоторых питомцев литературно-корректной живописи, ничуть не умаляла, разумеется, величия и живописной ценности холстов Джиорджоне и Рубенса.
С точки зрения этой-то чистой живописи, всецело подчиняющей себе внешнюю психологическую сюжетность картины, Суриков совершенно спокойно мог писать в одно и то же время и вдохновенно святые лики отцов Церкви, и искаженные злобой лица стрельцов.
ОГЛАВЛЕНИЕ.
От автора.. 5
Глава первая. Детство. Академия.. 7
Глава вторая. «Утро стрелецкой казни».. 25
Глава третья. «Меншиков в Березове».. 51
Глава четвертая. «Боярыня Морозова».. 71
Глава пятая. «Покорение Сибири».. 93
Глава шестая. «Переход Суворова через Альпы». — «Стенька Разин». — Портреты. — Пейзажи.. 112
Глава седьмая. Итоги.. 132
ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ.
Автопортрет (1915 г.).. 8—9
Красноярск.. 16—17
Утро стрелецкой казни (1881 г.).. 32—33
Меншиков в Березове (1883 г.).. 40—41
Сцена из римского карнавала (1884 г.).. 48—49
Голова боярыни Морозовой.. 56—57
Боярыня Морозова (1887 г.).. 64—65
Христос, исцеляющий слепого (1888 г.).. 72—73
Взятие снежного городка (1891 г.).. 80—81
Покорение Сибири (1895 г.).. 88—89
Солдат (этюд к «Переходу Суворова через Альпы»).. 96—97
Стенька Разин (1887 г.).. 104—105
Гребец (этюд к «Стеньке Разину»).. 112—113
Сибирячка (1903 г.).. 128—129
Примеры страниц
Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 111 МБ)
4 августа 2018, 18:54
0 комментариев
|
Партнёры
|



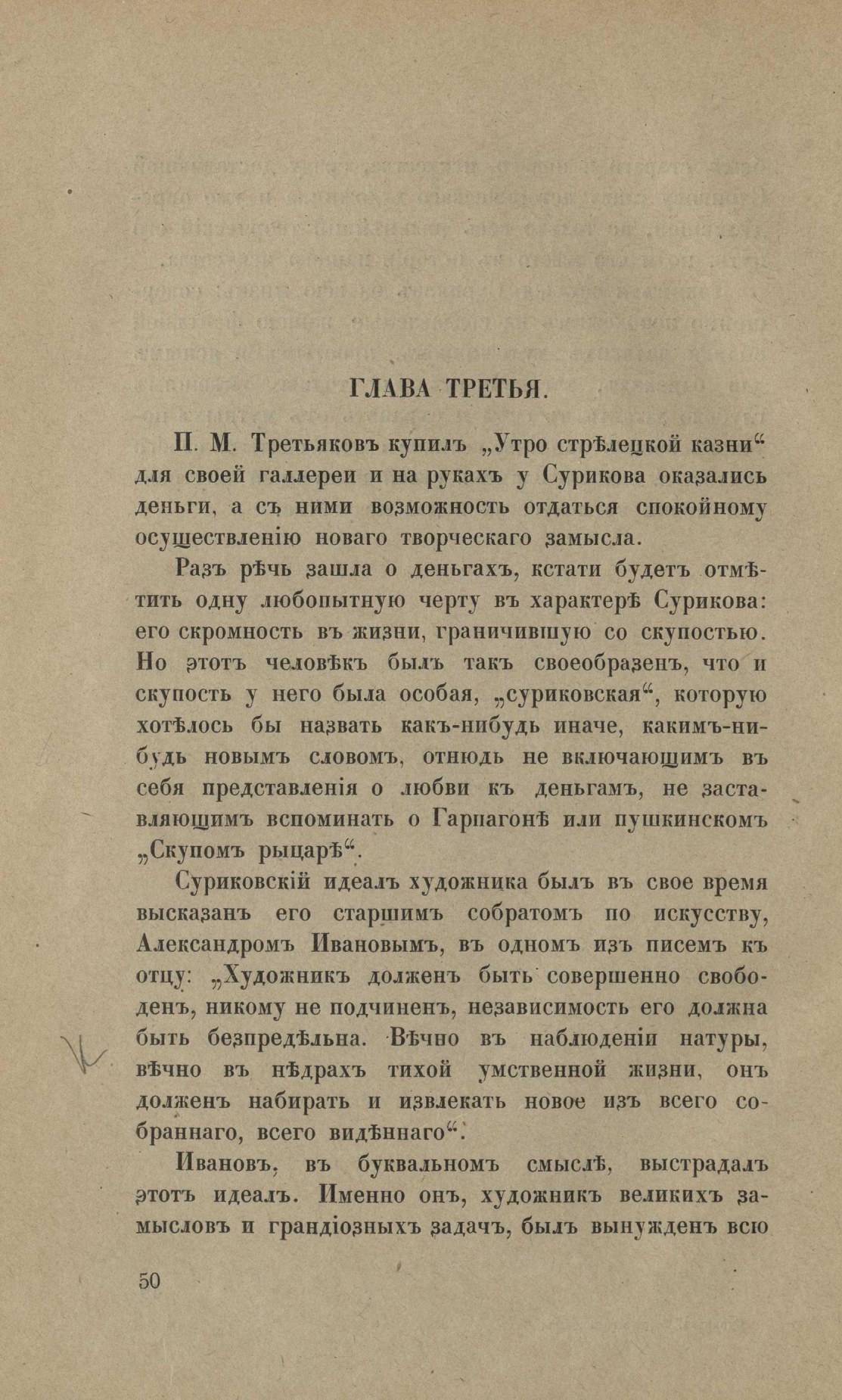
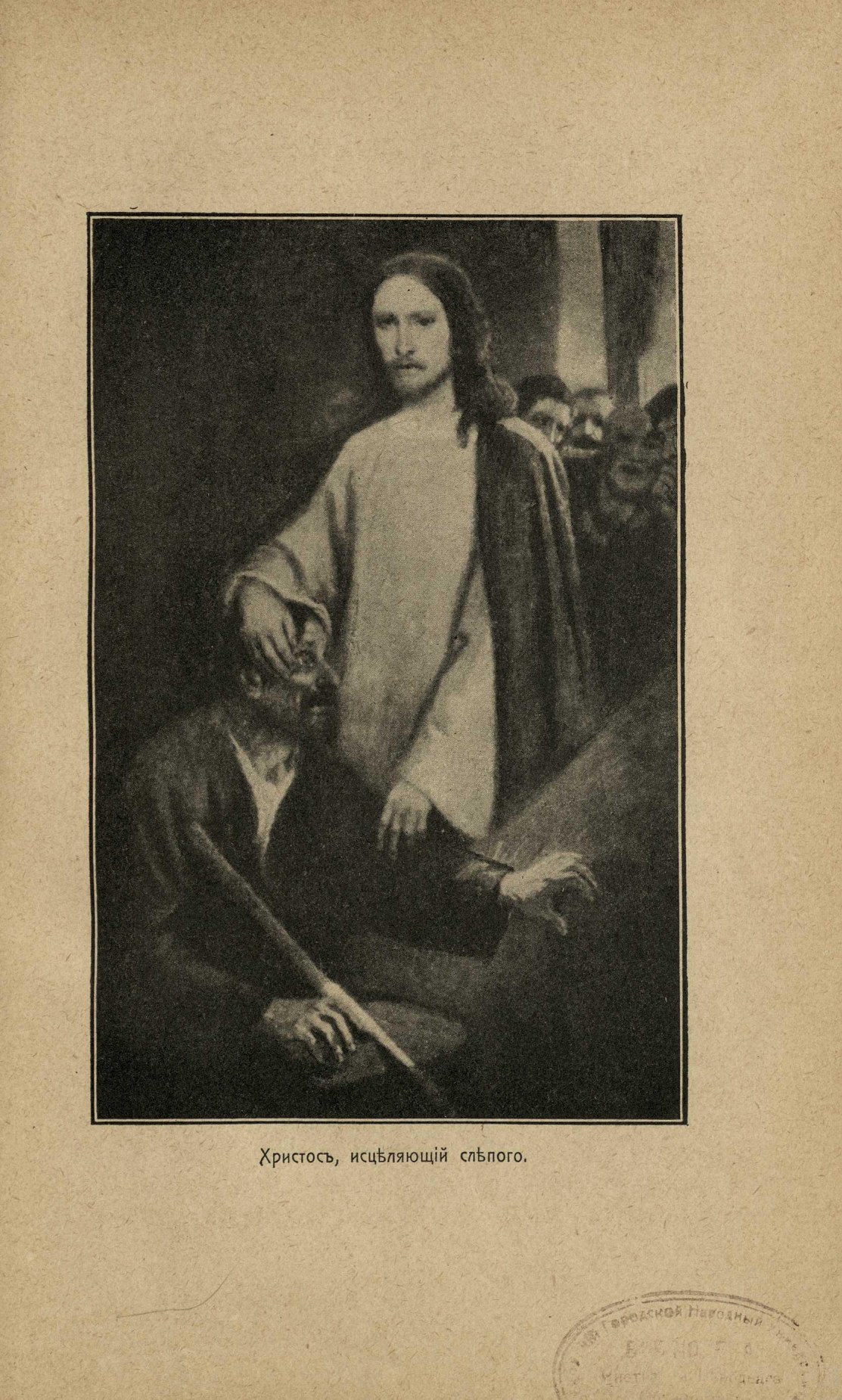





Комментарии
Добавить комментарий