|
|
Плаггенборг Ш. Революция и культура : Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. — С.-Петербург, 2000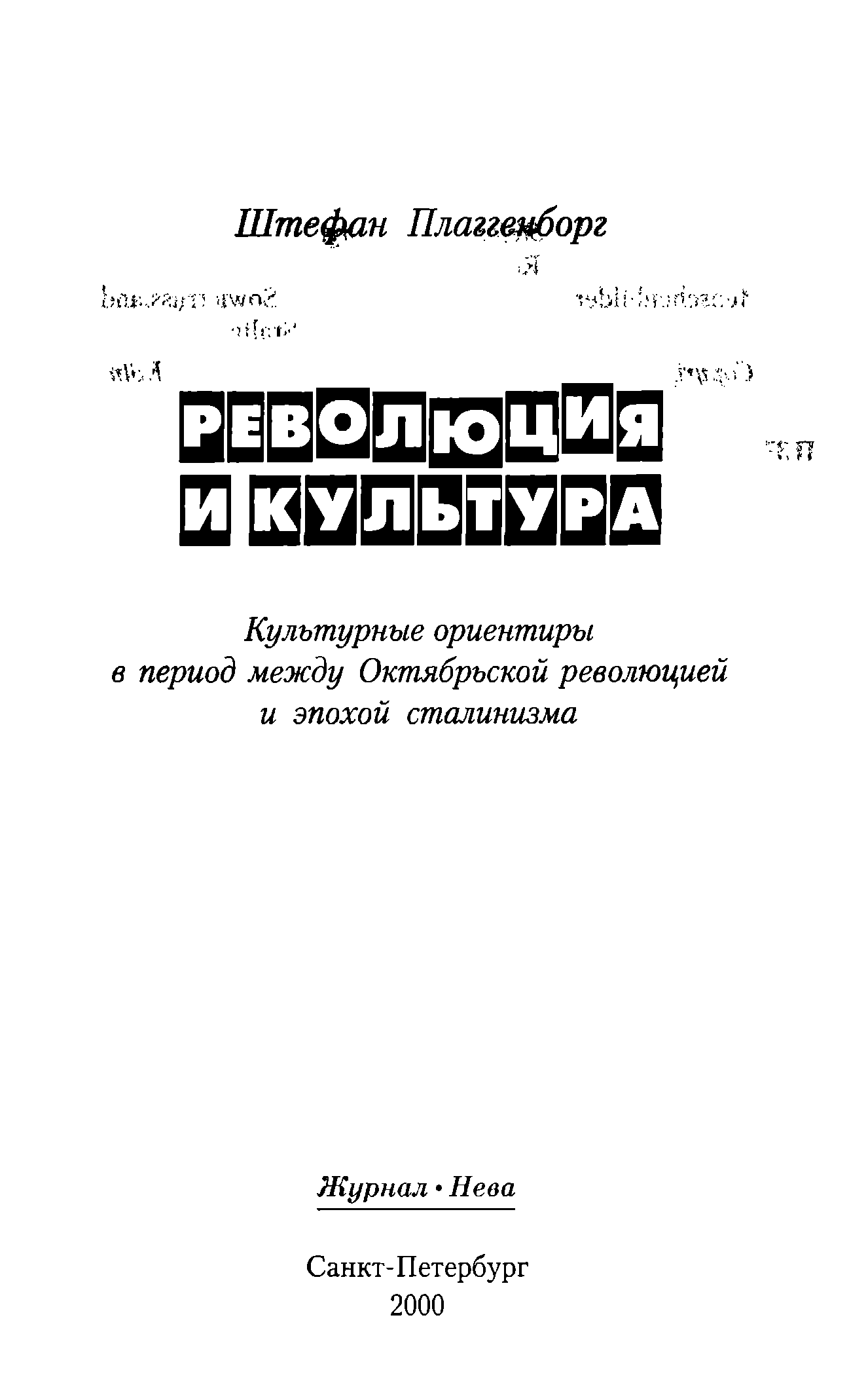 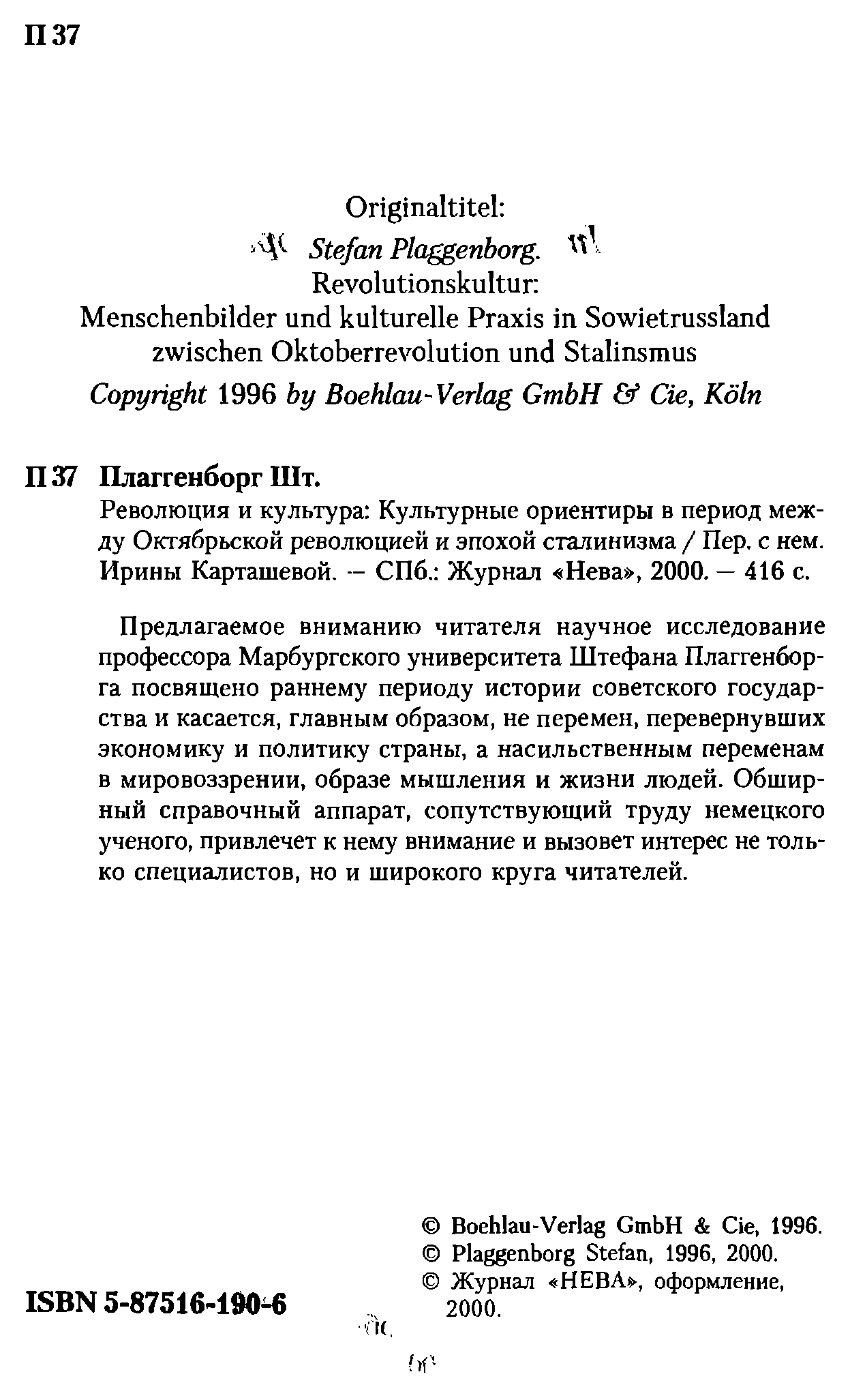 Революция и культура : Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма / Штефан Плаггенборг ; Пер. с нем. Ирины Карташевой. — Санкт-Петербург : Журнал «Нева», 2000. — 414, [1] с. — ISBN 5-87516-190-6[Аннотация]
Предлагаемое вниманию читателя научное исследование профессора Марбургского университета Штефана Плаггенборга посвящено раннему периоду истории советского государства и касается, главным образом, не перемен, перевернувших экономику и политику страны, а насильственным переменам в мировоззрении, образе мышления и жизни людей. Обширный справочный аппарат, сопутствующий труду немецкого ученого, привлечет к нему внимание и вызовет интерес не только специалистов, но и широкого круга читателей.
Originaltitel: Stefan Plaggenborg. Revolutionskultur: Menschenbilder und kulturelle Praxis in Sowietrussland zwischen Oktoberrevolution und Stalinsmus
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Данное исследование посвящено теме, наверное, не слишком увлекательной для сегодняшней России. В нем анализируется ранний советский период и, кроме того, культура той эпохи — чтиво для ностальгиков. Публикация этой книги на русском языке связана с тем, что великая культурная трансформация послереволюционного времени все же оказала огромное влияние на жизнь современников и представляет собой тему не менее важную, чем перемены в сфере экономики и политики. В этой книге рассматриваются концепции, мировоззрения, представления о человеческом мышлении, формировании впечатлений, действиях и физическом состоянии, а также о презентации новой культуры. Найдут здесь ностальгики то, что им хочется или нет, — этот вопрос хотелось бы оставить открытым.
Русское издание отличается от оригинала в одном существенном пункте. Из издательских соображений пришлось отказаться от третьей части: «Культурные антагонизмы», посвященной проблемам секуляризации конверсии и религиозных меньшинств, а также конкурирующих форм политического атеизма. Автор счел необходимым разобрать принципиальный случай духовной реорганизации на примере коллизии религиозных традиций и мировоззрений с инсценированным государством атеизмом с тем, чтобы найти предпосылки культурно-исторического развития в социальной истории. Несмотря на то, что методологическая и концептуальная основа книги в данном издании подвергнута сокращению, обе переведенные части являются самостоятельными. Однако для того, чтобы у читателя была возможность ознакомиться с основополагающей концепцией, введение не претерпело изменений за исключением немногочисленных сокращений.
Мне хотелось бы выразить свою признательность всем сотрудникам библиотек и архивов, облегчивших мою работу с августа 1991 по январь 1992 гг., благодаря любезной помощи которых состоялась эта книга.
Я глубоко признателен своим гостеприимным русским друзьям, принявшим меня в своем доме в те исторические недели. Им я хотел бы посвятить эту книгу.
Штефан Плаггенборг
Марбург,
декабрь 1999 г.
ВВЕДЕНИЕ
Октябрьская революция ознаменовала собой начало новой эпохи. Победа большевиков означала приход к власти не просто какого-то активного меньшинства — это была политическая группировка, представлявшая самые радикальные позиции в российском и европейском социалистическом лагере. Революционеры заявляли о себе, как о строителях нового, прежде всего более совершенного мира. Они утверждали, что сделают его более справедливым, обеспечат всеобщее благосостояние и поведут людей из кровавых передряг Мировой войны в мирное, свободное и счастливое будущее. С прошлым они намеревались покончить так же решительно, как Ленин на том знаменитом плакате, где он очищает землю от «нечисти».
Так в России началась эра великих, беспримерных перемен1. Она положила начало коренным изменениям XX века. Новизна стала качеством особого рода: появились новая общественная элита, новый экономический порядок, был «обновлен» и марксизм, идеи которого перевернули с ног на голову, поскольку пролетарской революции не предшествовала капиталистическая фаза, были введены новые правила правописания, новый календарь, возникли новые учреждения. Началась перестройка почти всех сфер, хотя уже в самом начале стало ясно, что вместо экспериментального строительства новым представителям власти предстоит решать задачи по поддержанию элементарных условий жизни. Им пришлось заниматься не дележом материальных благ, а думать о снабжении людей хлебом. Справедливость вначале также предназначалась не для всех. С миром, не говоря уже о миролюбивой политике, тоже ничего пока не получалось. Однако в основе этой трансформации лежала всеобъемлющая концепция, т. к. в ней не осталось не учтенным ничто. Она касалась мира вещей, потому что от переустройства экономики, государства, общества, быта ожидалось достижение желаемых перемен. Концепция перемен затрагивала, в том числе, и людей, причем изменения здесь планировалось осуществлять не только посредством внешних факторов, но и путем применения «рукоприкладства» к их внутреннему миру и даже к телесной организации.
____________
1 Парижскую коммуну, упоминаемую Лениным в произведении «Государство и революция», нельзя считать таким примером, т. к. после Октября 1917 г. она упоминалась в лучшем случае в «воскресной идеологии».
Это и есть отправной пункт данного исследования. Конечно, невозможно было одним разом изменить работу организаций, учреждений и инстанций в связи с иными целевыми установками. Но можно ли не учитывать существования одной стороны в истории метаний первых лет советской власти, от которой самым решительным образом зависел успех или неуспех начинаний? Могли ли революционеры быть уверены в успехе своей политики, понимая, что сколько бы они ни организовывали им постоянно приходилось сталкиваться с препятствиями, коль скоро дело касалось людей? Переделать какое-либо предприятие в социалистическое, даже национализировать все народное хозяйство было несравненно легче, чем «перестроить» людей в соответствии со своими целями. Например, в результате принятия декрета о национализации типографий перестали выходить «буржуазные» газеты, типографские прессы стали печатать исключительно то, что хотели революционеры. Однако слова всех декретов об образовании, касающиеся воздействия на людей, нельзя назвать иначе.
Темой данного исследования является культура раннего периода советской власти. Первая часть посвящена изложению представлений о человеке и попыткам его реорганизации с учетом того, что на культуру послереволюционного периода оказала влияние не только большевистская идеология, — существовало множество проектов, содержащих идеи о культуре будущего и о месте в ней человека. Кто занимался размышлениями на эту тему? Какое место отводилось культуре, и, прежде всего, человеку в проектах тех лет, посвященных его духовной, психической и — даже — физической организации? Оговоримся с самого начала: следующие главы посвящены не столько советским людях вообще, сколько тем, кто говорил и писал о них.
Имя Ленина упоминается в данном труде крайне редко, и не без основания. В написанных до сих пор научных исследованиях Ленин предстает этаким сверхчеловеком, принимавшим даже самые незначительные решения по всем сферам вплоть до мельчайших деталей, проявляя при этом такую дотошность, такое упорство, что все остальные кажутся рядом с ним тенью самих себя2. Здесь Ленин опускается намеренно, поскольку, в противном случае, это увело бы на традиционную, изъезженную дорогу. Вместо этого данная работа пытается вскрыть коллективный настрой большевиков и их сподвижников: как они подходили к решению проблемы, связанной с началом культурной революции лишь по прошествии некоторого времени после революции социальной?
____________
2 Из последних публикаций см.: Pethibridge Roger. One Step Backward, Two Steps Foward. Soviet Society and Politics in the New Economic Policy. Oxford, 1990. Несмотря на довольно нетривиальный подход к теме — им проводится сравнение 1922 г. и 1926 г., не отмеченных яркими событиями, с целью выявления возможного скачка в развитии системы, он смотрит на них не с центральной перспективы, однако коль скоро речь заходит о концепции культуры, он возвращается к Ленину.
Пытаясь придать реорганизации человека всеобъемлющий характер, они прибегали к помощи всех средств, бывших в их распоряжении. Этому посвящена вторая часть. Из многочисленных описаний известно, как большевики начали использовать инструменты воспитания населения. Среди народа распространялись газеты, пропагандистские материалы, повсюду вывешивались плакаты, было введено обязательное школьное образование, обучение было пронизано идеологией. Однако не так называемый «третий фронт» большевиков, т. е. система образования в обычном смысле слова, является главной темой данного исследования. По этому вопросу уже было написано немало работ. Одного описания мер, предпринятых режимом в области образования, недостаточно для углубленного проникновения в проблемы послереволюционной плановой культуры в целом. В связи с понятием культуры, разъяснение которого будет дано позже, возникает вопрос о том, как революционеры распространяли свои идеи среди населения, в частности, среди женщин, что было сложнее в силу еще более высокого уровня неграмотности среди них, чем среди мужчин. Ведь донести до народа свои идеи означало для них, прежде всего, показать себя революционерами, олицетворением революции и новаторами. В этих целях использовались классические средства образования, но ими не исчерпывается репертуар средств самовыражения нового режима. Поэтому центральным вопросом в этой связи является вопрос об использовании и трансформации уже имевшихся средств информации и о соображениях, исходя из которых создавались новые. В этом нашли свое отражение не только воспитательные задачи, но также и то, что можно назвать символизацией и наглядной демонстрацией режима. С помощью подчиненных ему средств информации он заявляет о своем существовании на культурном уровне.
Таким образом, используемые средства выполняли двойную функцию: традиционная передача информации вообще, а также донесение ее до конкретных адресатов. Будучи средством самовыражения нового режима, они проливают свет на власть, стоящую за ними. Они являлись рупорами нового, инструментами построения новой культуры и одновременно ее важной составной частью. Поэтому не проглядывает ли в них, кроме традиционных функций, собственная культурная логика? Наряду с представлениями, планами, проектами, посвященными новой культуре и новому человеку, средства информации самого различного характера, использовавшиеся архитекторами культуры, отражали их дух. Если рассматривать средства информации как символ нового, то и их форма, и содержание позволяют сделать выводы о культурном проекте.
Такие рассуждения подводят к вопросу о масштабах и глубине культурных преобразований. Несколькими строками выше уже упоминалось о всеохватности преобразовательной концепции. Хотелось бы подчеркнуть слово «концепция», дабы не создавать впечатления ее полного успеха. В этой связи возникают вопросы о взгляде на мир, смысле жизни, убеждениях, мышлении, ценностях и поведении, предлагавшихся реципиентам новой культуры для ориентации в новой обстановке. В какой степени эти предложения претендовали на воплощение и признание? Существовала ли у масс возможность выбора или же плановики культуры играли роль авторитарных перевоспитателей? Революционная, наступательная, синтетическая культура, схематически представлявшая собой альтернативу культуре традиционной, формировавшейся в течение долгих лет, не только образовывала, давала политическое руководство к действию, воспитывала в духе нового режима, но и была направлена на формирование коллективных воспоминаний. «Создать» новую культуру означало, одновременно, создать воспоминания. Не скрывается ли за этим попытки пересмотра прошлого или манипуляции им в целях подгонки воспоминаний каждого конкретного человека о прошедшей политической эпохе под заданные коллективные воспоминания? Что предпринимали новые представители власти для того, чтобы взять под контроль даже воспоминания?
Взятые в комплексе, «культурные проекты», показанный в них идеал человека, и самые разные сферы культурной практики создают неоднородный ансамбль, характеризующийся разнообразием самых разных представлений и замыслов. Но при всей многоплановости никогда нельзя упускать из виду комплексность революционной культуры, а также тот факт, что она была своего рода связующей нитью, соединявшей человека с существующим режимом. Такая история культуры представляет собой в то же время и историю отношений социальных групп, а, тем самым, и историю власти, даже если этот вопрос и не является центральным.
Взятая в таком разрезе, история революционной культуры дает, кроме того, возможность взглянуть на фрагмент истории российской интеллигенции, как мы увидим, не только революционной, хотя именно ее представители являются авторами большинства анализируемых здесь культурных проектов и представлений об идеале человека. О «своих» людях писали или размышляли вслух интеллигенты, считавшие себя агентами новых моделей культуры. Анализ их мыслей позволяет проникнуть в сущность отношений между интеллигенцией и народом, складывавшихся, — оговоримся заранее — как правило, не в пользу интеллигенции. Поэтому неразрывно связанный с концепцией всеобщей перестройки, не лежащий на поверхности, но возникающий постоянно вопрос о власти и господстве встает в двояком смысле: вопрос господства интеллигенции над остальным населением и, в первой части книги, вопрос господства мужских представлений о женщине. В истории описываемой здесь культуры живет своеобразное противоречие, заключающееся в том, что самостоятельно мыслящая интеллигенция узурпирует культуру остальных и не допускает свободы в мышлении и жизни, присутствие которой является условием ее собственной творческой активности3.
____________
3 Эта мысль звучит в книге: Eisenstadt Schmuei N. Die Mitwirkung der Intellektuellen an der Konstruktion lebensweltlicher und transzendenter Ordnung. Die Kultur als Lebenswelt und Monument / Под ред. Aleida Assmann и Dietrich Harth. Frankfurt/M., 1991. S. 123—131.
Наконец, речь пойдет о фрагменте истории так называемого прогресса, якобы начинающего свое победоносное шествие со свершением революции и ради которого предпринимается великая трансформация. Он будет показан как источник вдохновения для фантазии плановиков культуры, правда, зачастую выливавшейся скорее в фантасмагорию, нежели в реально осуществимые проекты.
Вопрос о том, можно ли считать конец двадцатых годов исторической вехой, актуален, конечно же, не только для социальной истории, но и для истории революционной культуры. Можно ли заниматься исследованиями двадцатых годов, забывая, что на смену им пришел сталинский режим? Конечно же, нет, но данный труд видит свою первоочередную цель не в показе культурной «прелюдии» — говоря словами из названия книги Роджера Петибриджа4, — тех явлений, которые мы привыкли обозначать словом «сталинизм». В дальнейшем мы не станем выравнивать металлические опилки культурного развития магнитом грядущего сталинизма из опасений, что это может повлечь за собой искаженный взгляд на присущее источникам качество говорить самим за себя. «Сталинистских» проектов культуры не существовало, не являются исключением и те из них, авторство которых принадлежит бывшим царским чиновникам, перешедшим на службу к большевикам или просто оставшимся в должности. Мне хотелось бы показать планы культурного переустройства, появившиеся после Октябрьской революции, а также осветить культурную практику тех лет, в частности, те моменты, которые по каким-либо причинам не удалось воплотить в жизнь.
____________
4 Pethibridge Roger. The Social Prelude to Stalinism. London; Basingstoke, 1974. Он же. One Step. Р. 5. Петибридж снова подчеркивает, что, давая книге такое название, он не имел в виду телеологической перспективы.
Но как быть с тем фактом, что на смену описываемому здесь периоду пришел сталинизм? Можно ли говорить о наличии между ними преемственности? Представляется необходимым соблюдать осторожность в аргументации, т. к., прежде чем говорить о сталинизме как логическом продолжении каждого документального источника, следует вначале вскрыть их собственную внутреннюю логику. Осторожность следует соблюдать и по совсем иной причине. Прежде чем говорить, какие черты источников являются сталинистскими, необходимо обрисовать культурное лицо сталинизма более четко, иначе нам угрожает опасность произвольной интерпретации постулатов преемственности, скорее затрудняющей понимание, нежели проясняющей картину. До сих пор ни одной работе не удалось удовлетворительным образом справиться с этой задачей. Данное исследование не может сделать этого уже потому, что оно не касается сталинизма, но в нем будет обращено внимание на возможные случаи преемственности в тех местах, где мы будем сталкиваться с явлениями, впоследствии проявившимися в более выраженной форме. Однако один вопрос выяснить необходимо: можно ли сказать, что признаки «сталинизма» проявились наиболее заметно в области культуры и по каким причинам?
Несмотря на приведенные методологические соображения, не теряет остроты вопрос о когерентности революционной культуры Советской России послеоктябрьского периода и сталинизма. Не было ли в первые послереволюционные годы явлений, о которых никто и не подозревал, что они станут идейной основой сталинизма, его подготовкой? Не существовало ли каких-либо мыслей, попыток оказания давления на людей, действие которых проявилось не сразу, а несколькими годами позже? Этот вопрос о взаимосвязях внутри советской революционной культуры, обладающий — ввиду только что приведенных методологических доводов, — чрезвычайной важностью, будет разобран в заключительной главе. Может быть, нам удастся в общих чертах показать то, что условно можно было бы озаглавить как «идейные предшественники и идейная подготовка сталинизма».
Мы исходим из того, что явление сталинизма требует объяснения и с культурной точки зрения. Тем более, что представляется необходимым отойти от принятой до сих пор дихотомической трактовки сталинизма, от разделения на элиту и народ. Может быть, пора подвергнуть явление сталинизма не только экономической и политической интерпретации, но и взглянуть на его концепцию? Тогда и в самом деле необходимо исследовать вопрос о его связи с революционной фазой, при этом с позиций обновленной истории культуры можно пересмотреть устоявшееся мнение о конце двадцатых годов как крупнейшей исторической вехе. Как известно, рассмотрение сталинизма в отрыве от революционного процесса, начавшегося в 1917 г., не проясняет картины. Но эти вопросы выходят уже далеко за скромные рамки последующих страниц, несмотря на их неразрывную связь с концепцией данного исследования.
В вышеизложенном уже намечена методологическая ориентация, которую невозможно описать понятиями социальной истории. Необходимо соблюдать осторожность, потому что при взгляде на период между революцией и Второй мировой войной сразу же бросаются в глаза две крупнейшие исторические вехи: переход от «военного коммунизма» к новой экономической политике в 1920—1921 гг. и начало коллективизации сельского хозяйства и форсированной индустриализации в 1928—1929 гг. Почти во всех описаниях периода 1917—1941 гг. встречаются эти три четко отделенные друг от друга фазы. Такая периодизация социальной истории, по-видимому, абсолютна и не подлежит сомнению. И этот норматив утвердился настолько, что, читая исторические исследования, видишь как бы три совершенно разных государства и общества. Это говорит о том, что под влиянием последних работ, посвященных анализу социально-экономических аспектов социальной истории советского общества в отрыве друг от друга, сложился такой образ страны и общества, что человек, желающий познакомиться с историей этой страны, не может воспринять ее как единое целое.
Заметим, что приведенные соображения являются аргументом, направленным не против социальной истории, а скорее, против ее непредвиденного эффекта. В основе данной работы лежит уже завоевавшая признание историческая концепция, согласно которой — говоря упрощенно, — общественные структуры не обладают абсолютным значением, а люди не являются лишь марионетками в них. Социальная же история способствует возникновению именно такого представления, может быть, потому, что она занималась описанием общества и экономики, претендовавшего на звание общества, построенного на основах марксизма или же на учениях классиков, разработанных на его почве. Таким образом, с позиций марксизма и развитых на почве марксизма социологических основ как советские, так и западные историки занимались тщательным исследованием общественных структур, созданных на основе учений Маркса и Ленина, и, наверное, ни в каких работах по современной истории роль человека не умалялась до такой степени, как в работах по истории Советского Союза. Люди упоминаются в них лишь постольку поскольку, в лучшем случае как жертвы экономических экспериментов или политического террора. В остальном же за человека «отвечала» художественная литература. Таким образом, написание данной книги было вызвано дефицитом, наблюдающимся в исторической науке до сих пор. Особенно ярко он заметен на фоне многочисленных произведений, посвященных культуре и менталитетам периода Французской революции и более позднего времени. Про политическое и экономическое «лицо»5 постреволюционного периода Советской России на данный момент известно уже многое, но что касается его культурного «лица», то, по сравнению с двумя первыми, оно явно обделено вниманием.
____________
5 Это же слово, использованное в названии книги Рене Фюлепа-Миллера (см. ниже), употребляет Грэйм Гилл; Graem Gill. Stalinism. Houndmills, London, 1990.
Итак, здесь будет предпринята попытка показать идеал человека раннего советского периода, «антропологическое измерение»6 советской истории. Последующие главы посвящены сфере культуры, т. к. эта область обладает наиболее высоким исследовательским потенциалом, тогда как в сфере социальной истории известно пусть еще и не все, что необходимо для углубленного понимания эпохи, однако все же значительно больше, чем в области культуры и менталитетов.
____________
6 Nipperdey Thomas. Die antropologische Dimension der Geschichtswissenschaft / Он же. Gesellschaft, Kultur, Theorie. Göttingen, 1976. S. 33—58; Groh Dieter. Antropologische Dimensionen der Geschichte. Frankfurt/M., 1992.
Однако понятие культуры, на котором построена работа, требует подробного разъяснения еще и потому, что здесь не разбираются классические темы культурной политики, такие как, например, насаждение грамотности, школьное образование, университеты, театр, литература и т. п.
С понятием культуры в широком плане мы сталкиваемся в двух областях. Кто занимался политологией, тот знает, что, начиная с пятидесятых годов нашего века, существует концепция «политической культуры», разработанная в США Габриэлем А. Алмондом, Сиднеем Верба и Лусианом В. Пай с точки зрения ее развития7. Прежде всего, благодаря критике британского социолога Брайана Бэрри эту концепцию, на протяжении долгого времени применимую лишь к демократическому стабильному обществу, постепенно удалось распространить на страны, находящиеся в состоянии резких перемен или только что их перенесшие8. О слабых местах этой концепции писали и другие критики9. Еще до этого Пай и Верба признали, что нельзя говорить о существовании единой политической культуры, следует различать политическую культуру элиты и масс, а также учитывать региональную специфику10. Этим они расширили возможности применения концепции к инсценированным переменам политической культуры в условиях переворота, революции и появления новых руководящих слоев. Вслед за ними Арчи Браун предпринял усилия по распространению концепции политической культуры на страны Восточной Европы и по изменению ее теоретических формулировок11. Его позицию можно назвать позицией субъективиста, постулирующего в качестве объекта исследования «субъективную перцепцию истории и политики, фундаментальные убеждения и ценности, центральные моменты идентификации и лояльности, политические знания и опыт»12. Он выделил четыре основных типа политической культуры13, оказавшихся неподходящими для интерпретации того самого динамичного пункта, о котором писал Бэрри: политической культуры системы, находящейся в условиях перемен.
____________
7 Almond Gabriel A. Comparative Political Systems / Journal of Politics. 18 (1956). P. 391—409; The Politics of the Developing Area. Сост. Он же и James S. Coleman. Princeton, N.Y., 1970. P. 9—58; Он же, Verba Sidney. The Civic Culture. Political Attitudes and Democraty in Five Nations. Princeton, N.Y., 1963. P. 3—42; Он же, Powell G., Bingham Jr. Comparative Politics. A Development Approach. Boston, Mass., 1966. P. 50—72; Он же. The Intellectual History of the Civic Culture Concept / The Civic Culture Revisited. Ред. Он же и Sidney Verba. Toronto, 1980. P. 1—36; Pye Lucian W. Culture and Political Sciense. Problems in the Evaluation of the Concept of Political Culture / The Idea of Culture in the Social Sciences. Под ред. Louis Schneider и Charles M. Bonjean. Cambridge, 1973. P. 65—76; Political Culture and Political Development. Ред. Он же и Sidney Verba. Princeton, N.Y., 1965, автор введения — Пай (См.: Там же. С. 3—26); автор заключительной главы Верба. (См.: Там же. С. 512—560); в качестве примера одной из самых первых работ, написанных на эту тему в Германии см.: Berg-Schlosser Dirk. Politische Kultur. Eine neue Dimension politikwissenschaftlicher Analyse. München, 1972.
8 Barry Brian. Sociologists, Economics and Democracy. London, 1970. P. 48—52.
9 Lijhpart Arend. The Structure of Inference / Almond, Verba. The Civic Culture Revisited. P. 37—56. Лийпарт, как и Бэрри, критикует, прежде всего, отсутствие четкого определения отношений между политической культурой и политической структурой, поскольку трудно сказать, что из них является причиной, а что следствием. Возражая Бэрри, Алмонд отстаивает свою позицию, считая взгляды Бэрри ошибочными. Он пишет, что политическая культура отражается на структуре и подвергается влиянию структуры. Almond. The Intellectual History. P. 29. Верба говорит о том, что невозможно определить, насколько взгляды населения влияют на принятие политических решений: Verba Sidney. On Revisiting the Civic Culture: A Personal Postscript / Almond, Verba. The Civic Culture Revisited. P. 394—410. Pateman Carole. A Philosophic Critique / Там же. С. 57—102, вначале указывает на ошибочную интерпретацию взаимосвязи «civic culture» (политической культуры) с социально-экономическим статусом. Она упрекает авторов в непригодности их метода для освещения взаимосвязи агрегированных убеждений и поведения отдельных индивидуумов с политической структурой, т. к. они умалчивают об основной проблеме: разделении общества на классы и по половому признаку. На бесчисленные методы «проверки» и проблемы убедительности указывает Руе (Culture). Разработкой применения концепции политической культуры в описательных и пояснительных целях занимались: Elkins David J., Simeon Richard E. В. A Cause in Search of its Effects? / Comparative Politics. 11 (1979). P. 127—145; Rogowski Ronald. A Rational Theory of Legitimacy. Princeton, N.Y., 1976. P. 4—17, высказывается о концепции политической культуры как о чем-то излишнем. Историками Восточной Европы был подмечен как раз момент разорванности стратификации государства и классового анализа, в результате чего политическая культура получилась как бы бесклассовой (См.: Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Социология, политика, международные отношения. М., 1974. С. 110—112; Бурлацкий Ф. М. Ленин, государство, политика. М., 1970. С. 55). Wiatr Jerzy J. (The Civic Culture from a Marxist-Sociological Perspective / Almond, Verba. The Civic Culture Revisited. P. 102—103) усматривает в ней «ориентацию на средний класс». Пример использования рецептивной истории в Восточной Европе встречается в статьях сборника: Политические отношения: прогнозирование и планирование. Под ред. Д. А. Керимова. М., 1979, особ. С. 125—133.
10 Pye. Introduction. P. 3—26; Verba. Conclusion. P. 512—560. Они пишут о том, что политическая культура складывается из «системы убеждений, приобретенных эмпирическим путем, выразительных символов и ценностей, помогающих определить ситуацию, в которой и происходит политическое событие. Это предполагает наличие субъективной ориентации в политике» (Там же. 5113. См. также: Almond, Powell. Comparative Politics).
11 Political Culture and Political Change in Communist States. Ред. Archie Brown, Jack Gray. London, 1974; Он же. Soviet Politics and Political Science. London, 1974, особ. гл. 4; Ред. Он же. Houndmills, London, 1984, эд. «Introduction». Р. 1—13 и «Conclusions». Р. 149—204.
12 Brown, Gray. Political Culture. P. 1.
13 Ibid. P. 8, 174—184. Вот они: 1) единая политическая культура; 2) доминантная политическая культура, сосуществующая с различными другими политическими культурами; 3) дихотомическая политическая культура; 4) фрагментированная политическая культура, в которой отсутствует доминирование общенациональной политической культуры над политической культурой племен, религиозных направлений, социальных или этнических группировок.
О проблематичности концепции политической культуры в теоретическом отношении, а особенно с точки зрения ее применения в научных исследованиях пишет в своей блестящей статье Мэри Мак-Оли14. На ее критику следует ориентироваться всем, кто строит свои историко-культурные исследования на основе категорий Брауна.
____________
14 McAuly Mary. Political Culture and Communist Politics: One Step Forward, Two Steps Back / Brown. Political Culture. P. 13—39.
Мак-Оли поступает очень просто: она задает субъективистам точно сформулированные ключевые вопросы, опираясь, в основном, на работу Стефена Вайта, посвященную политической культуре Советского Союза15. Ее вывод: «Во всех случаях мы констатируем: ответы субъективистов являются неудовлетворительными»16. Мак-Оли смущает тот факт, что работать с концепцией политической культуры все еще чрезвычайно сложно по причине размытости ее категорий. Она подвергает субъективистский подход принципиальной критике. «Как можно идентифицировать субъективные убеждения, да еще к тому же являющиеся делом далекого прошлого?, — спрашивает она и констатирует: Прежде чем заниматься анализом и объяснением политической перцепции, следует вначале идентифицировать ее»17. Ее критика распространяется, в частности, на Вайта и его постулат преемственности, опираясь на который, невозможно говорить о том, что такое истинная традиция, а что лишь имеет какое-то сходство с прошлым.
____________
15 White Stephen. Political Culture and Soviet Politics. London, Basingstoke. 1979.
16 McAuly. Ibid. P. 15.
17 McAuly. Ibid. P. 15.
Проблемы исследовательской концепции можно свести к принципиальному вопросу о выборе критериев релевантности, которые, в свою очередь, следовало бы вскрыть и обосновать18. Как на их отбор влияет дух времени, показывает игра-гипотеза Мак-Оли: «Если бы авторы союза Брауна-Грэя приступили к работе в 1950 г., или в тридцатых годах, или — в случае с Россией — в 1912 г., ими были бы составлены совсем иные каталоги политической культуры дореволюционного периода, чем в настоящее время»19. Между строк статьи Мак-Оли прочитывается упрек субъективистам в тривиальности: «Кто же станет отрицать, что в кризисные периоды (и не только тогда) люди занимаются поиском новых, старых, более „совершенных” путей организации общества, исходя при этом из своих убеждений, надежд и предположений. Мы обращаемся к своему и чужому культурному наследию, мы вынашиваем новые идеи, открываем заново старые, мы реагируем на несправедливое устройство общества, мы считаем, что открыты все возможности, или же что ничего не меняется. Для того, чтобы сказать это, нет нужды в новой концепции политической культуры»20.
____________
18 McAuly. Ibid. P. 18.
19 McAuly. Ibid. P. 20.
20 McAuly. Ibid. P. 26.
Собственно говоря, нет нужды и в старой концепции, ведь Мак-Оли смягчилась лишь в одном: она не стала выбрасывать на помойку бесполезных научных приемов всю концепцию целиком. Однако складывается такое впечатление, что в данном случае ею руководило, скорее всего, сочувствие. В самом деле, после ее критики британские теоретики постепенно смолкли.
Разбирая вопрос о принятии концепции политической культуры в Германии, к сходным результатам приходит Макс Каазе; правда, он выступает за ее сохранение в измененном виде21. Но он не приводит никаких доказательств в пользу возможностей и целесообразности применения этой концепции на практике. Говоря словами из названия его книги, гвоздь не виноват в том, что с него сваливается пудинг22.
____________
21 Kaase Max. Sinn oder Unsinn des Konzepts «Politische Kultur» für die Vergleichende Politikforschung, oder auch: Der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln / Wahlen und politisches System / Под ред. H. Klingemann. Opladen, 1983. S. 144—171.
22 За исключением некоторых остаточных явлений историческая концепция политической культуры канула в Лету. С ее итоговым обзором можно познакомиться Lemke Christiane: Die politische Kultur sozialistischer Systeme in Osteuropa. Fragestellungen, theoretische und konzeptionelle Probleme der Forschung / Die politische Kultur Polens. Под ред. Gerd Meyer, Franciszek Ryszka. Tübingen, 1989. S. 41—45, зд. особ. прим. 1; Hanke Irma. Alltag und Politik. Zur politischen Kultur einer unpolitischen Gesellschaft. Eine Untersuchung zur erzählenden Gegenwartsliteratur der DDR in den 70-er Jahren. Opladen, 1987. S. 7—20 (с указанием литературы); довольно оптимистичных взглядов по поводу применения концепции придерживается Horn Hannelore: Perestrojka und politische Kultur / Osteuropa. 40 (1990). H. 8. S. 705—717.
В данной работе понятие политической культуры не встретится больше нигде. Являясь тупиком как в теоретическом, так и в методологическом отношении, оно до сих пор не принесло каких-либо новых результатов. Опыт показывает, что, применяя эту концепцию, авторы удаляются от проблемы, впадая в теоретизирование.
Однако, несмотря на крах брауновской концепции «политической культуры», его основные идеи не лишены привлекательности. В данном исследовании мы коснемся представлений о «введении» новой культуры, поговорим об ее перцепции, сопротивлении населения, политических ориентирах, ценностях, будет разобран вопрос о мобилизации, т. е. о воспоминаниях. Мы упомянули о справедливой критике субъективистского подхода. Постараемся избежать его. Нет нужды подчеркивать особо, что на культуру раннего советского периода наложила сильный отпечаток политика, что культуру вообще нельзя рассматривать в отрыве от политической сферы. Вместе с тем представляется необходимым указать на это, т. к., с другой стороны, с некоторых пор наблюдается определенная слепота в отношении политики среди представителей сравнительно молодого направления исторической антропологии, некоторые идеи которой также были использованы в написании данного исследования.
В общественных науках тоже произошла перемена перспективы; возник ряд мыслей, методологических вопросов, перекликающихся с идеями концепции политической культуры23. Вначале антропологические темы встретили интерес представителей французской исторической науки24. В исторической антропологии, методологические принципы которой нашли применение и в данной работе, отсутствует единое понятие культуры25, однако в ней существует что-то вроде течения, к которому можно причислить и данное исследование, когда речь в нем заходит о том, о чем молчали Маркс, Энгельс и Ленин. В качестве примера можно назвать главу о физической культуре. Кстати сказать, — это как бы еще одна горсть земли, брошенная в могилу концепции политической культуры, — часть представителей исторической антропологии являются сторонниками субъективистского подхода, близкого к подходу теоретиков политической культуры26.
____________
23 Предпринимая попытку дать новое определение, Браун настоятельно подчеркивает свою ориентацию на культурную антропологию; Brown. Political Culture. Р. 1—13, 149—205.
24 Erbe Michael Historisch-anthropologische Fragestellung der Annales-Schule / Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte. Ред. Hans Süssmuth. Göttingen, 1984. S. 19—31.
25 Historische Anthropologie. Под ред. Hans Süssmuth. Göttingen, 1984; Volkskultur. Zur Wiederentdeckung des vergessenen Alltags (16—20. Jahrhundert). Под ред. Richard van Dülmen, Norbert Schindler. Frankfurt/M., 1984; Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen. Под ред. Alf Lüdtke. Frankfurt/M., 1989; Ряд весьма важных произведений: Clifford Geertz, Peter Burke, Carlo Ginzburg, Marshall Sahlins, Victor Turner, Rhys Iisaac / Das Schwein des Häuptlings. Beiträge zur historischen Anthropologie. Под ред. Rebekka Habermaas, Nieb Minkmar. Berlin, 1992; Groh. Anthropologische Dimensionen. S. 117—181; Sozialgeschichte und Kulturanthropologie. Под ред. Jürgen Kocka / Geschichte und Gesellschaft. 10 (1984). H. 3; см. также статьи из журнала «Historische Anthropologie. Kultu—Gesellschaft—Alltag»; о связи концепции политической культуры и культурной антропологии см.: Tucker Robert С. Culture, Political Culture, and Communist Society Quaterly. 88 (1973). P. 173—190.
26 См. введение Ребекки Хабермаас и Нильса Минкмара к книге: Habermaas, Minkmar. Das Schwein. S. 7—20. В нем не отражен плюрализм взглядов внутри этого направления.
Понятие культуры, на которое опирается данная работа, позаимствовано из этого ответвления исторической науки, поскольку оно рассматривает явления в культурном контексте во избежание экономического редукционизма. Глиффорд Гиртц придает культуре большой вес, предлагая понимать ее как «необходимое условие человеческого бытия» и видеть в ней «набор контрольных механизмов — планов, рецептов, правил, руководств к действию (то, что на языке информатиков называется „программой”) — для регламентации поведения»27. Он утверждает, что культура передается посредством символов, упорядочивающих жизнь человека28. Поэтому Гиртц видит в человеке артефакт культуры: «Наши идеи, ценности, действия, даже наши чувства, так же, как и сама наша нервная система, являются продуктами культуры — правда, сформированными на основе врожденных наклонностей и способностей, но, тем не менее, сформированными»29. Алексей Гастев, о котором пойдет речь в первой главе, согласился бы с Гиртцем по этому пункту и прибавил бы, что стоит только изменить культуру, и тогда мы получим новые человеческие артефакты. Здесь удивляет, во-первых, то, что подобное мнение исходит от столь уважаемого предшественника современной антропологии, по праву называемого ее вдохновителем, и, во-вторых, что его преемники, ученики и применители его идей не замечают, что тем самым антропологическая теория льет воду на мельницу идеи об управляемости формами человеческого бытия посредством культуры. Наверное, излишне говорить что-либо еще о связи этой проблемы с темой данной книги.
____________
27 Geertz Clifford. Kulturbegriff und Menschenbild / Das Schwein. S. 56—82, цит. 72 и 70.
28 Posner Roland. Kultur als Zeichensystem. Zur semiotischen Explikation kulturwissenschaftlichen Grundbegriffe / Assman, Harth. Kultur. S. 37—74, исходит из тех же самых предпосылок, особ. S. 57. Труд Познера представляет собой попытку не описания культуры, а анализа механизма ее передачи.
29 Geertz. Kulturbegriff. S. 77—78.
Проникновение в культуру через изучение символов стало обычной формой научного исследования, в том числе и в исторической науке30. Являясь, так сказать, «цементом» общества или, по крайней мере, предоставляя возможности для. его создания, символы помогают понять суть культуры разных уровней изнутри. Здесь антропология также дала несколько важных импульсов для методики изучения ритуалов и символов общества. Как правило, для получения информации и передачи ее читателю применяется прием «плотного описания»31.
____________
30 Из последних публикаций хотелось бы назвать краткий обзор Хабермаас, Минкмара, предпринятый ими во введении к «Das Schwein», а также: Burke Peter. Historiker. Anthropologen und Symbole / Там же. S. 21—41.
31 Geertz Clifford. Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt/M., 1983.
Не новую по сути мысль о разделении культуры на мир жизни и монумент высказала Алеида Ассман32. Ее идея состоит в том, что, в отличие от мира жизни, синонима быта, «культура как монумент конститутивно направлена на зрителя»33, и что монументализация способствует выработке знаков, обеспечивающих коммуникацию с потомками. Однако, нам представляется, такое качество монумента, как направленность на будущее, не является столь специфичным, чтобы этот вопрос не укладывался в рамки проблемы символа в культуре. Общественные празднества Ассман называет центральным пунктом, вокруг которого создаются монументы.
____________
32 Assman Aleida. Kultur als Lebenswelt und Monument / Kultur als Lebenswelt. Ред. Ее же, Dietrich Harth. Frankfurt/M., 1991. S. 11—25.
33 Assman. Kultur. S. 14.
Большое значение для нашей темы имеет мысль об искусственных традициях. Эрик Хобсбом, сформулировавший это понятие34, говорит о наличии взаимосвязи, уже упомянутой выше. В создании искусственных традиций есть определенный смысл, но их существование зависит от степени их признания. И тем не менее, в этой связи возникают интересные вопросы об условиях и обстоятельствах возникновения, а также проявлении традиций, их передаче и распространении. Тем самым понятие Хобсбома направлено непосредственно на главную составную часть культуры, уже названную выше: на создание коллективных воспоминаний. Британского историка занимала проблема «социальной функции прошлого»35 — тема, которая прозвучит и в этой работе. Что происходит, если «прошлое как функция настоящего», по словам Жака ле Гоффа36, отрицается и заменяется сконструированным прошлым, «урегулированными воспоминаниями»37?
____________
34 The Invention of Traditions. Ред. Eric J. Hobsbawm, Terence Ranger. Cambridge etc., 1983. P. 1—14.
35 Hobsbawm Eric J. The Social Function of the Past: Some Questions / Past and Present. 55 (1972). P. 3—17.
36 Le Goff Jacques. Geschichte und Gedächtnis. Frankfurt/M.; New York, 1992. P. 36—38.
37 Kulenkampff Jens. Notiz über die Begriffe «Monument» und «Lebenswelt» / Assman, Harth. Kultur. S. 26—33, зд. S. 28.
В последующих главах речь пойдет, главным образом, о концепциях, замыслах, мировоззрениях, представлениях о человеческом мышлении, чувствах, поведении и физической конституции, а также об их конфронтации с действительностью тех лет. Выражаясь терминами современной историографической дискуссии, я смотрю «сверху», т. к. объектом моего исследования являются представления элиты: я пишу об образе мыслей новых представителей власти и их окружения, на основе которого они собирались создать то, что называлось «новой культурой», о проявлениях культуры на уровне символов, об ее внедрении (или о попытках внедрения), об ее конкретных проявлениях и, тем самым, о культурной практике. Это сложное явление под названием «культура» ни в коем случае нельзя понимать так, как оно якобы из технических соображений, понималось в исследованиях прошлых лет, а именно, в виде линейного процесса: замыслы, затем средства передачи этих замыслов и, наконец, попытка воплощения их в жизнь. Если согласиться с такой точкой зрения, культуру нужно понимать как процесс поступательного движения от идеи к ее (успешной или не увенчавшейся успехом) реализации.
Однако мы не согласны с таким пониманием культуры, и нам не хотелось бы, чтобы архитектоника книги вызвала такую интерпретацию. Здесь описывается явление, многогранное по своим формам, многоплановое по своему значению, переплетенное со многими другими и автономное одновременно. Что общего имела физическая культура с празднествами первых лет советской власти, что общего было у гастевской идеи психомоторной тренировки с плакатами времен Гражданской войны? Самые разные явления связаны своей принадлежностью к одной и той же культуре. Поэтому я и не использую четкого определения культуры, не выстраиваю завершенной теории культуры.
Сторонникам чистой методологии моя книга придется не по нраву. Хоть она и обязана немаловажными импульсами вышеназванным теориям, однако, автор позволит себе — особенно по прочтении впечатляющей статьи Мак-Оли — прибегнуть к обычным методологическим приемам критической интерпретации источников и использованию принципа историзма. Это вызвано убеждением, что упрямое цепляние за методологические установки превращает объект исследования в раба методики. Историк не должен попадать в субъективистскую ловушку, о которой говорила Мак-Оли, т. к. в результате он рискует всего-навсего заполнить обратную сторону листа объективистского описания истории. Так что пусть в этом месте испуганно отвернутся от этой книги историки всех направлений: представители социальной истории потому, что у меня нет теории, под которую я стану подгонять действительность; историки быта, потому что я не описываю микроистории и не смотрю «снизу»; историки этнографического направления, потому что я в недостаточной степени применяю «плотное описание»; приверженцы историзма, потому что для них эта книга окажется бесполезной. Ни в одном месте мы не будем отдаляться от общества, в поле нашего зрения постоянно будет находиться весь исторический комплекс. Существование символов, передача дискурса не означает, что культуру следует искать в каких-то недосягаемых высотах.
Еще несколько слов по поводу уже написанных исследований. Критика социально-исторического подхода, предпринятая в начале и, без сомнения, указывающая на присущую ему дилемму, получилась довольно резкой в интересах общей ориентации читателей. Если же посмотреть на картину, рисуемую в дальнейшем, станет ясно, что во многом данная работа использует его. Это касается, в том числе литературы по так называемому «третьему фронту». Несмотря на различия в подходе и интересах, она в некоторых случаях служит базой данного исследования, без которого невозможно было бы найти ответ на вопросы, поднимаемые в дальнейшем. В соответствующих главах, в которых мы попытаемся рассмотреть культурное развитие с интегративной точки зрения, мы будем использовать ее или же подвергать критике. Эта литература слишком многочисленна, чтобы можно было представить ее во вводной части. В соответствующих местах о ней будет сказано отдельно.
Есть два произведения, представляющие особую важность для нашей темы вследствие их подхода, поднимаемой ими проблематики и попытки комплексного взгляда на важные детали. Не случайно даты их выхода в свет отделяют друг от друга более шестидесяти лет — в этом нашли свое отражение интересы историографии. Книга Рене Фюлепа-Миллера «Дух и лицо большевизма» была опубликована в 1926 г.38, книга об «утопических замыслах и экспериментальных формах жизни» Ричарда Стайтса — в 1989 г.39
____________
38 Fülöp-Miller René. Geist und Gesicht des Bolschewismus. Darstellung und Kritik des kulturellen Lebens in Sowjet-Rußland. Zürich; Leipzig; Wien, 1926.
39 Stites Richard. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in Russian Revolution. New York; Oxford, 1989.
В своем объемном произведении венгерский homme de lettres пытается докопаться до культурного смысла большевизма, им очень верно подмечено, что это историческое движение не может быть исчерпано «политическими и экономическими категориями»40. Задолго до изобретения метода «плотного описания» Гиртцем он уже был применен Фюлепом-Миллером. Он считал, что для описания «живого явления» не подходят «безличные теории» или «сухое перечисление фактов», что «лишь только с помощью непосредственного переживания можно достоверно описать людей, их поступки, слова и идеи». Как будто прочитав историков — представителей антропологического измерения, он пишет: «Под объективностью здесь понимается правдивость уже в самом подходе к созерцанию, непредвзятое личное впечатление, видение и слышание, не отмеченное партийными пристрастиями»41.
____________
40 Fülöp-Miller. Geist. I.
41 Fülöp-Miller. Geist. II.
В своем произведении Фюлеп-Миллер исследует важные, по его мнению, признаки культурного пространства под названием «большевизм»: человек как часть массы, идея его освобождения, театрализация быта, связь культуры и политики, революционизирование быта и утрата традиций. Однако при сей позитивности его намерений, в описании явно проглядывает тихий ужас перед культурной практикой послеоктябрьского периода. В его книге ясно показаны диктаторские признаки большевизма как культурного явления, претерпеваемого русской душой, чувствующей себя комфортно лишь в коллективе. Ему не удалось раскрыть культурной логики большевизма, т. к. когда он описывает многочисленные уличные сцены, вместе с ним из-за угла выглядывает понятие гражданской свободы. И все же невозможно найти современника, «прислушивающегося» — это слово также позаимствовано из арсенала сегодняшних культурных дебатов — с большей интенсивностью, чем этот автор, на лбу которого написано слово «сострадание».
Ричард Стайтс во многом является преемником Фюлепа-Миллера42. Он пытается показать утопичность форм жизни и идей послереволюционного периода. Он указывает на то, с каким энтузиазмом, подъемом и жаждой жизни, невзирая на тяжелейшие условия тех лет, население Советской России взялось за трансформацию повседневного жизненного уклада. Заслуга Стайтса состоит в том, что он пролил исторический свет на несчетное количество безымянных людей. Со своей стороны, новое государство посредством кампаний, пропаганды и символических форм прилагало немало усилий для того, чтобы заявить о себе населению. В интерпретации Стайтса лаборатория утопий и экспериментальных форм жизни закрывается с приходом Сталина.
____________
42 Книга американского автора подробно анализируется мной. Stationen der sowjetischen Gesellschaft auf dem Weg in den Stalinismus / Archiv für Sozialgeschichte. 31 (1991). P. 606—617.
Эта история спонтанной, нерегламентированной сверху культуры вынуждает Стайтса принять утвердившуюся в социальной истории периодизацию, он ставит точку на конце двадцатых годов как вехе исторического развития. Этим он цементирует парадигму перехода к сталинизму, с которым постреволюционная культура, по сути дела, не имела ничего общего. Однако с точки зрения «нижней» перспективы, такая трактовка выглядит правдоподобной.
На читателя, прочитавшего предшествующие главы с интересом, это действует, как холодный душ разочарования. Спрашивается, какой же ценностью обладает подход Стайтса для осмысления раннего советского периода? Его подход традиционен: пришел властитель и положил конец бурной пестроте жизни. Стайтс не говорит о том, в силу чего культура приобретает способность оказывать влияние на историю на протяжении долгого времени. То, что выше мы назвали когерентностью революционной культуры, не представляет интереса для Стайтса — или, в лучшем случае, имя его когерентности — утопия, подвергнутая удушению.
В заключение хотелось бы представить две попытки интерпретации культуры раннего советского периода и ее развития, предпринятые не с точки зрения истории. Андрей Синявский, писатель, живущий в Париже, эмигрант, жертва государственных репрессий брежневской эпохи, попытался описать отличительные признаки советской цивилизации43. Вслед за русскими философами начала столетия Николаем Бердяевым и Дмитрием Мережковским, также избравшими эмиграцию, он развивает религиозно-мистический взгляд на советскую культуру и выработанный ею идеал человека. В качестве ключа он выбирает поэму Александра Блока «Двенадцать» с ее метафорой избавления. По мнению Синявского, коммунизм — это религия, его научность — фикция, одевающаяся в сакральные одеяния, а государство Сталина — «церковное государство». Прежде чем отметать такие взгляды, как несоответствующие исторической действительности, следует вспомнить, что и из уст историков приходилось слышать подобные высказывания. Роберт Такер, которого трудно заподозрить в склонности к мистике, также проводил аналогию между церковным государством и Советским Союзом эпохи сталинизма44. Независимо друг от друга Стайтс и Синявский отмечают утопичность Ленина. Кроме того, Синявский обращается к темам русской советской культуры, требующим исторической разработки. Говоря о насилии как об основном признаке советской цивилизации, о символах, создаваемых государством, об «иррациональной» стороне культуры, он затрагивает некоторые вопросы, на которые не мешало бы обратить внимание современным исследователям культуры. По причине отсутствия научного аппарата, в силу нечеткости, свойственной писателю, ценность эссе Синявского как исторического исследования невелика, однако, оно является плодотворным и полезным с точки зрения оригинального взгляда на ощущение жизни и самооценку тогдашних мастеров цеха беллетристики.
____________
43 Sinjawskij Andrej. Der Traum vom neuen Menschen oder Die Sowjetzivilisation. Frankfurt/M., 1989.
44 Tucker. Culture. P. 181.
В отличие от Синявского, Борис Гройс видит красную нить советской культуры сталинской поры в русском авангарде, особенно в его мыслях по поводу искусства45, т. е. в явлении, хронологически совпадающем с интересующим нас периодом. Гройс утверждает, что сталинизм является художественным проектом, основанным, в свою очередь, на проектах досталинской поры. В своем эссе он, на основе исторического контекста, пытается «выстроить образцовую концепцию для осмысления эволюции культуры сталинского периода. Другими словами, речь идет о своего рода культурной археологии, в отличие от археологии Фуко, описывающей не только сменяющие друг друга парадигмы, но и механизм их замены»46.
____________
45 Groys Boris. Gesamtkunswerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion. München; Wien, 1988.
46 Ibid. P. 17.
Гройс не останавливается на вопросе об идентичности искусства и культуры. По мнению автора, в век так называемого постмодернизма, к которому он, по-видимому, ощущает себя причастным, происходит слияние эстетики универсального проекта культуры с реальной культурой. Эстетика становится ведущей наукой. Только так можно понять стремление Гройса доказать, что почву для сталинизма подготовил авангард, выдвигавший требование «абсолютной политической власти, неразрывной составной части авангардистского художественного проекта» и пытавшийся убедить реально существующую политическую власть в том, что на деле она является художественным проектом все того же авангарда47. Если отвлечься от постмодернистского словотворчества Гройса, то идея его эссе состоит в следующем: различия между политиками и власть имущими, с одной стороны, и человеком искусства, с другой, исчезают, если за реализацию эстетического проекта берется политическая власть. Так случилось во времена Сталина, и Сталин является «художником-тираном», на которого пал выбор авангарда.
____________
47 Ibid. P. 32.
Безусловно, в рассуждениях Гройса присутствуют некоторые верные мысли, однако в целом его произведению присущ некий постмодернистский вывих, т. к. реальности в нем отводится второстепенная роль. Позволим себе усомниться в правильности высказывания о том, что средство — это все, а реальность — ничто. С точки зрения истории, роль авангарда явно переоценена им. Гройс вроде бы прослеживает когерентность советской культуры от Октябрьской революции до сталинизма, однако конструирует ее на слишком узкой основе48.
____________
48 Гройс впадает в цинизм, описывая «Сталина как произведение искусства» — вследствие слепоты, обусловленной постмодернизмом? — не упоминая при этом о жертвах «произведения», словно сталинизм является, прежде всего, вопросом эстетики. По этому поводу см. критику постмодернистских философов: Ferry Luc, Renaut Alain. Antihumanistisches Denken. Gegen die französischen Meisterphilosophen. München; Wien, 1987.
Этот пример приведен для того, чтобы пояснить, какого рода теоретического и методологического подхода мы постарались избежать здесь. Прежде чем выстраивать теории, мы постараемся, в первую очередь, рассмотреть исторические явления.
Данное исследование рассматривает тему в двух частях. Глава 1 посвящена коллективным замыслам большевиков в области культуры. Затем мы перейдем к рассмотрению трудовой культуры, к универсалистским проектам нового человека в новой культурной среде, отличавшихся от более умеренных проектов радикализмом своих притязаний. Глава 2 посвящена вопросам физической культуры, т. к. культурные проекты ранней советской поры отнюдь не ограничивались трансформацией внутреннего мира человека. Здесь мы коснемся вопросов военизации, романтических идей о возвращении в лоно природы, а также проблемы «социалистической» евгеники.
Во второй части мы поговорим о символизации режима в двояком смысле, как отмечалось выше: о его самовыражении и одновременно о попытках воздействия на людей через их органы чувств. Здесь рассматриваются классические темы, такие, как периодика, книгоиздательство и общественные места для чтения: библиотеки и избы-читальни (глава 3), а также технические средства: радио (глава 4) и политический кинематограф (глава 6). Русскому советскому плакату посвящена отдельная глава (5), потому что, хотя по этому средству и имеются кое-какие исследования, пока еще никем не было предпринято обобщающего анализа его содержания на отдельном примере. В главах 7 и 8 пойдет речь о совершенно обойденной вниманием сфере действия политики и насаждения революционной культуры: экскурсиях и музеях первых лет советской власти, сфера, в которой ясно отразились противоречия и разногласия по поводу путей развития культуры будущего. Здесь отражаются затронутые нами проблемы формирования режимом коллективных воспоминаний. Празднества первых лет советской власти рассматриваются как особый вид проявления и символизации режима (глава 9), т. к в них прочитывается символика нового и одновременно содержится ответ на вопрос о новой социалистической народной культуре.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие к русскому изданию ... 5
Введение ... 7
Часть первая.
Реорганизация человека
Глава первая. Мнения ... 29
Революция и культура (1917—1932) ... 30
К дискурсу о революции и культуре ... 38
Трудовая культура ... 57
Гольцман: Культура трудящегося человека ... 68
Глава вторая. Тело
Бесплотная культура? ... 75
Тело, армия и культура ... 83
Трудовая культура и физическая культура ... 93
Гигиенисты: нарком Семашко ... 99
Спор о направлениях ... 102
Вырождение и «социалистическая» евгеника ... 110
Часть вторая.
Организация восприятия
Глава третья. Чтение
Печатное слово ... 125
От дефицита к массовому выпуску литературы ... 128
Проблемы книжного рынка ... 143
Избы-читальни, библиотеки и их посетители ... 149
Глава четвертая. Слуховое восприятие: радиовещание
Рупор революции ... 165
«Радио лицом к деревне» ... 175
Радиовещание на службе партии ... 181
Глава пятая. Зрительное восприятие I: статичные изображения
Всадник ... 185
Герои и чудовища ... 189
Интерпретация плакатов с культурно-исторической точки зрения ... 199
Производство и распространение ... 204
Глава шестая. Зрительное восприятие II: подвижные изображения
Инфраструктура кинематографа ... 210
Политическое кино: кинохроника ... 223
Зрители ... 231
Глава седьмая. Познавательный процесс: экскурсии Формирование мировоззрения посредством наглядности ... 239
Экскурсии как инструмент усовершенствования человека ... 240
Практика экскурсий ... 247
Глава восьмая. Воспоминания: наглядная история
Историческое значение настоящего ... 255
Культура в музеях и музейная культура ... 260
Ответная советская концепция ... 273
Экскурс: о безысторичности монументальной пропаганды 1918 г. ... 274
Глава девятая. Впечатления: государственные праздники
Народная культура по поручению правительства ... 287
Первые послереволюционные праздники ... 290
Первые работы по исследованию празднеств в Советской России ... 305
Десятая годовщина Октябрьской революции 1917 г. ... 310
Заключение ... 322
Литература и источники ... 337
Комментарии ... 362
Примеры страниц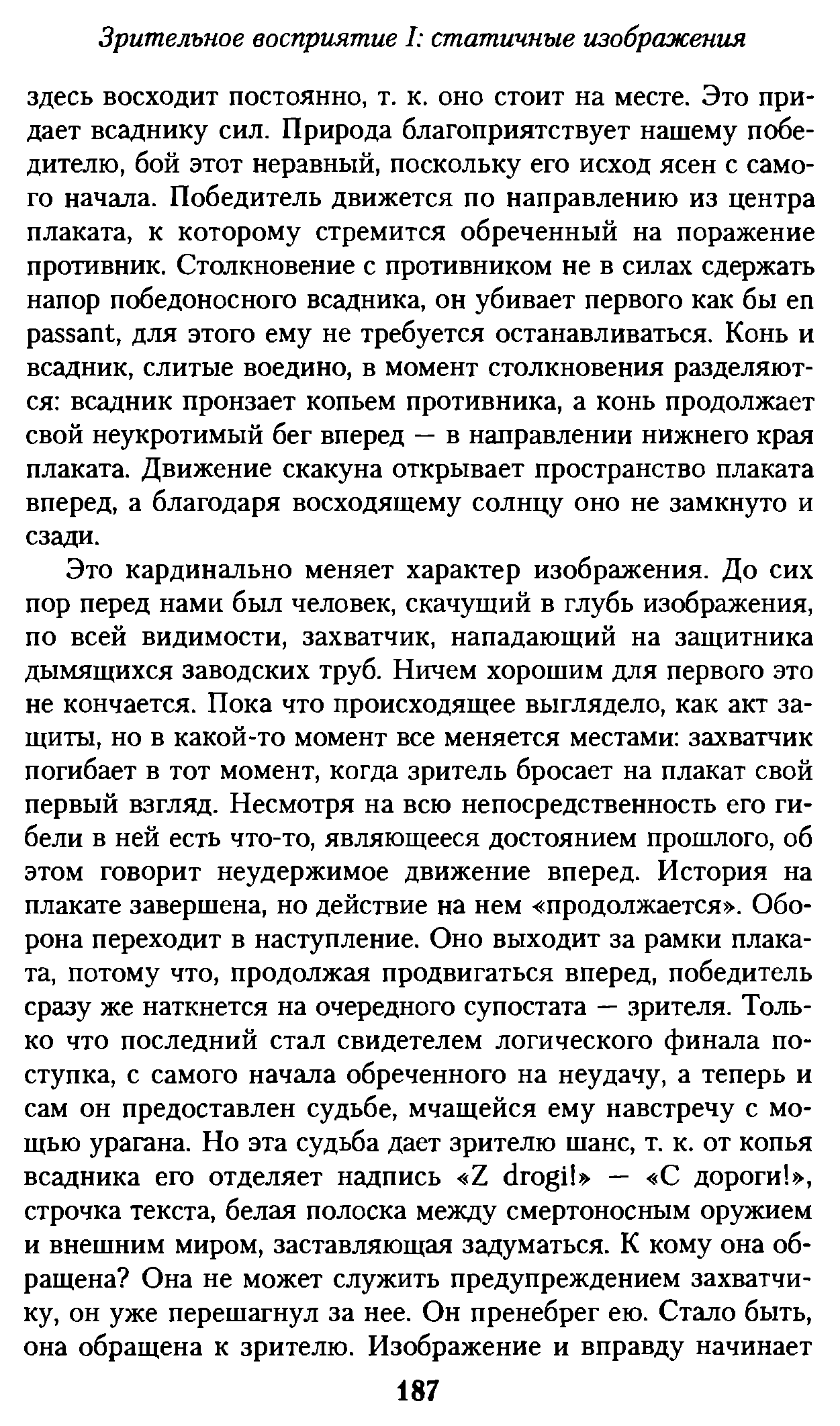 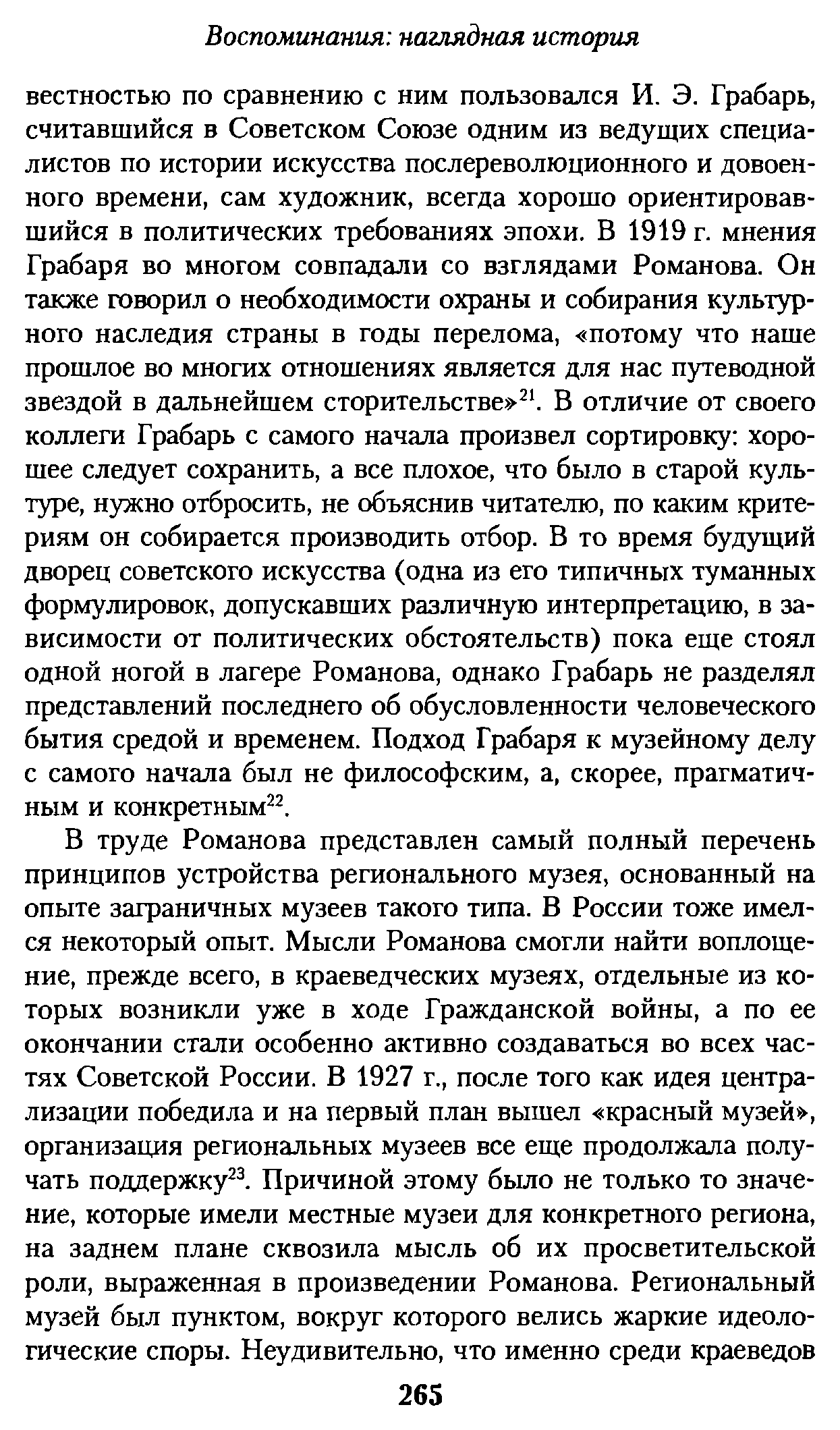
Скачать издание в формате djvu (яндексдиск; 2,3 МБ)
Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 2,9 МБ)
Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. Если вы являетесь правообладателем и не желаете некоммерческой публикации настоящего издания, пишите по адресу 42@tehne.com — ссылка на скачивание будет удалена.
4 августа 2025, 0:22
0 комментариев
|
Партнёры
|






Комментарии
Добавить комментарий