|
|
Западное искусство. ХХ век. Тридцатые годы : Сборник статей. — Москва, 2016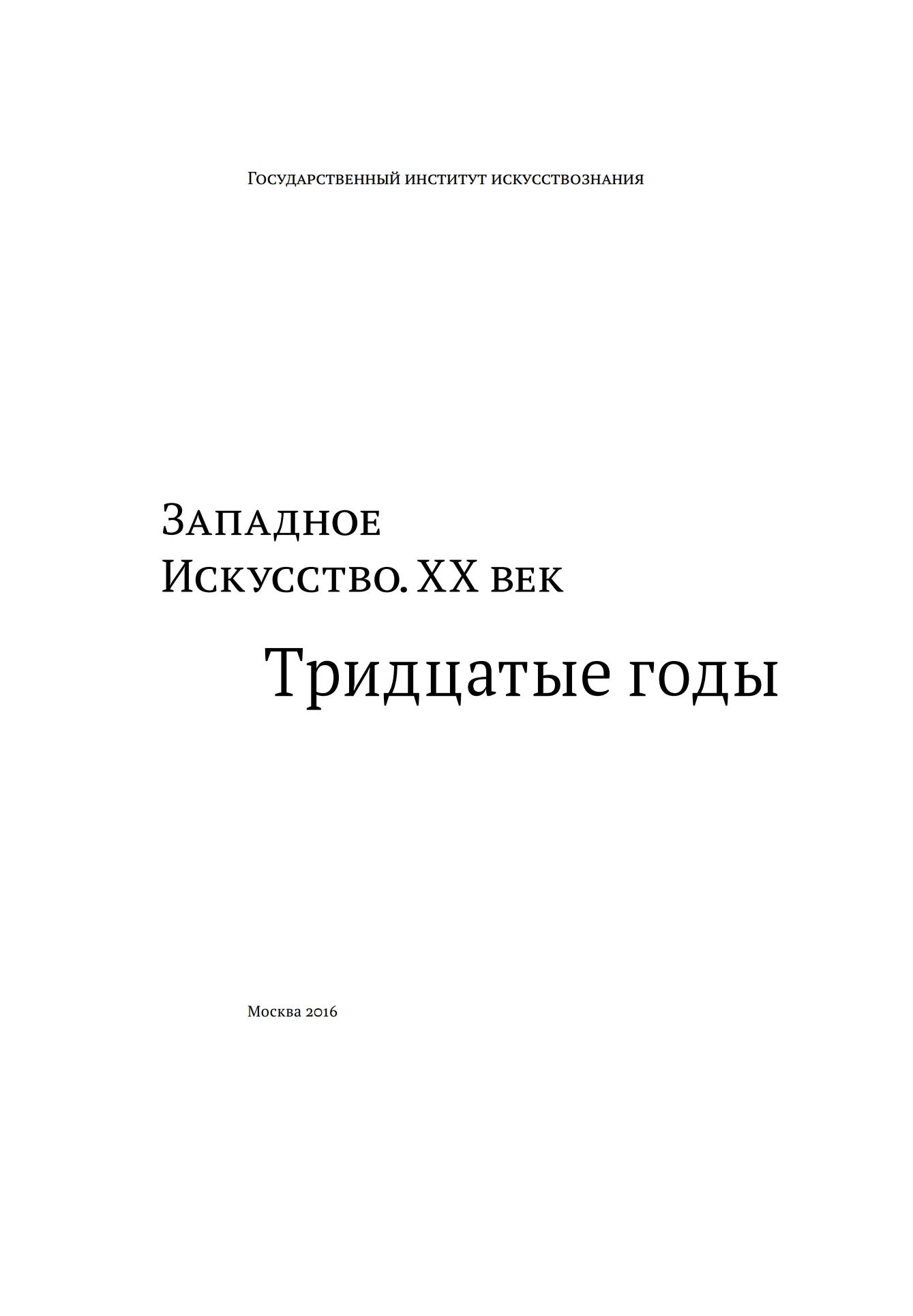 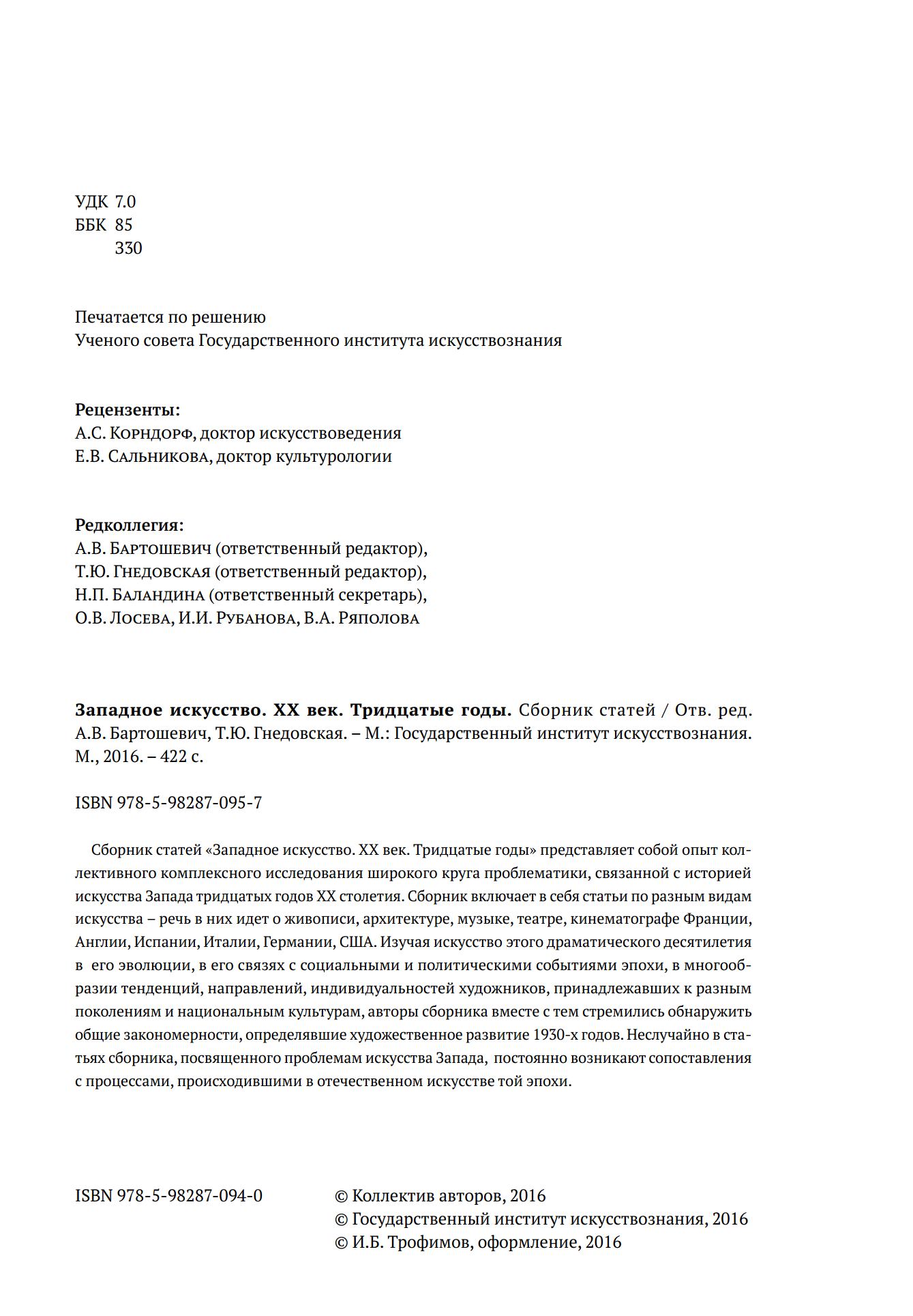 Западное искусство. ХХ век. Тридцатые годы : Сборник статей / Отв. ред. А. В. Бартошевич, Т. Ю. Гнедовская. — Москва : Государственный институт искусствознания, 2016. — 422 с., ил. — ISBN 978-5-98287-095-7
Сборник статей «Западное искусство. ХХ век. Тридцатые годы» представляет собой опыт коллективного комплексного исследования широкого круга проблематики, связанной с историей искусства Запада тридцатых годов ХХ столетия. Сборник включает в себя статьи по разным видам искусства — речь в них идет о живописи, архитектуре, музыке, театре, кинематографе Франции, Англии, Испании, Италии, Германии, США. Изучая искусство этого драматического десятилетия в его эволюции, в его связях с социальными и политическими событиями эпохи, в многообразии тенденций, направлений, индивидуальностей художников, принадлежавших к разным поколениям и национальным культурам, авторы сборника вместе с тем стремились обнаружить общие закономерности, определявшие художественное развитие 1930-х годов. Неслучайно в статьях сборника, посвященного проблемам искусства Запада, постоянно возникают сопоставления с процессами, происходившими в отечественном искусстве той эпохи.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Вступление
Т. Ю. Гнедовская 5
A. В. Бартошевич
Гамлеты тридцатых годов 8
Е. А. Дунаева
Жертвоприношение тени
(Театральная интермедия в Париже между двумя мировыми войнами) 41
B. А. Ряполова
Уильям Батлер Йейтс: последнее десятилетие 72
В. Ф. Колязин
Трауготт Мюллер — драма «каучукового человека»?
(От сценографа Пискатора до художника «Праздника дня рождения фюрера — 1935» и «Отелло» в прифронтовом Берлине) 93
Н. П. Баландина
Вокруг Жака Превера.
Сценарист во французском кинематографе 1930-х годов 145
М. А. Бусев
Между неоклассикой и сюрреализмом.
Пабло Пикассо в 1930-е годы 171
К. В. Орлова
Жоан Миро: творчество между двумя войнами 200
И. В. Лебедева
Геометрическая абстракция в американской живописи 1930-х годов: в поисках своего пути 216
Е. А. Лазарева
Футуризм как традиция в итальянской и русской живописи 240
А. Г. Вяземцева
Новый Рим в зеркале культуры итальянской столицы. 1920-1930-е годы 259
Т. Ю. Гнедовская
Немецкая архитектура между модернизмом и традиционализмом 292
A. Н. Селиванова
Architectus Ludens: постконструктивизм, ар деко и «монументальный ордер» 335
Е. М. Тараканова
Разворот к музыкальной классике.
Германия и Россия на фоне панорамы 1930-х годов 352
О. В. Лосева
Музыка: позиции и оппозиции 382
B. А. Вязовкина
«Роковая о гибели весть...»
Образы Судьбы в балетах 1930-х годов 406
Вступление
Нет сомнений, что понятие «1930-е годы» — есть календарная условность. Так же очевидно, что на протяжении этого, как и любого другого десятилетия имели место самые разные по окраске события, да и ситуация постоянно менялась. Однако в нашем сознании 1930-е годы как будто выпадают из общей хронологии и воспринимаются, во-первых, как изолированный, а во-вторых — как застывший, неизменный период, имеющий более чем определенные коннотации. Сознание отказывается допустить, что ужасы 1930-х явились естественным продолжением и следствием не только военного опыта 1910-х, но также радостей, свобод и преувеличенных надежд 1920-х годов. Ведь убедившись в подобной преемственности, мы оказываемся вынуждены признать, что эта страшная эпоха не была случайностью или своеобразным «бермудским треугольником» на карте истории и что, если развитие и впрямь идет по спирали, она имеет все шансы повториться.
Сознавая это, тем более стоит попытаться спокойно и непредвзято взглянуть на 1930-е годы, поместив их в общий контекст исторического развития и проследив, когда и в силу каких обстоятельств сформировалась специфика этого периода, в чем она заключалась и насколько общий, повсеместный характер носила. Авторы данного сборника стремятся взглянуть на историю через культуру и на культуру через историю. Искусство всегда помогало восстановить специфическое ощущение эпохи куда более эффективно, чем самая достоверная и подробная хроника событий, а кроме того, в 1930-е годы политика переплеталась с художественной жизнью европейских стран теснее, чем когда-либо.
Начало своеобразному сращению искусства и политики положили поистине революционные перемены, случившиеся в жизни большинства европейских стран после Первой мировой войны. На авансцену политической жизни вышли тогда «народные массы», о благополучии которых на протяжении предшествующих десятилетий радели и беспокоились лучшие представители образованного сословия. Многие деятели искусства в связи с этим преисполнились уверенности, что утопическая мечта о всепроникновении искусства и воспитании с его помощью нового человека наконец получила реальные шансы для реализации. Следствием этой уверенности стала вспышка лихорадочной творческой активности, на первых порах поддержанная представителями новой власти в целом ряде стран.
Увы, уже к концу 1920-х годов стало ясно, что зависимость от народа чревата порой еще большими проблемами, унижениями и опасностями, чем зависимость от «царя». В конце 1920-х идеи коллективизма и преклонение перед «массами» постепенно начали уступать место пониманию ценности индивидуума, а склонность к радикальному новаторству и революционным переменам — интересу к традиции. Одним из следствий этих тенденций стал стремительно набиравший силу культ героев и вождей, внесший немалую лепту в установление и укрепление тоталитарных режимов. В результате этих тенденций 1930-е годы становятся временем, когда народ постепенно превращается в послушную и безгласную массу, именем которой тираны расправляются с инакомыслящими. Более того, в странах, где царит культ личности, все, кто действительно обладает правом так именоваться — а в их число, понятное дело, входят все крупнейшие художники, — оказываются вынуждены бороться не просто за право свободно мыслить и творить, но и за физическое выживание.
Все это вовсе не означает, что в 1930-е годы перестают создаваться великие произведения искусства. Напротив, начало и середина 1930-х поражают богатством и разнообразием художественных возможностей и становятся временем долгожданного синтеза, временем, когда вдруг вполне органично совмещается то, что до этого казалось антагонистичным. Так, опыт, приобретенный в пору авангардных экспериментов, оказывается востребован и адаптирован к новому прочтению классики, личное творческое переживание мыслится органичной частью всемирного наследия, низовые жанры, так же как и разнообразные формы фольклора, превращаются в мощный источник обогащения вполне академического художественного языка.
Не раз говорилось о том, что апелляция к традиции, столь характерная для 1930-х годов, была не только результатом разочарования в радикальном новаторстве, но и следствием ужаса перед надвигавшимися катастрофами и катаклизмами. «Вечные темы» и «вечные ценности», казалось, служили нравственным укрытием и точкой внутренней опоры тем, кого новые трагические обстоятельства выбивали из привычной колеи, нередко заставляя менять привычки, страну обитания, язык, круг знакомых, профессию. А мы знаем, что в 1930-е годы огромные массы европейцев, среди которых заметное место занимали деятели культуры, были вынуждены сдвинуться с насиженных мест, спасая себя и свои семьи. Русский актер Михаил Чехов, поработав в России и Германии, закончил жизнь в США, как и русский балетмейстер Баланчин или голландский живописец Пит Мондриан. Немецкие архитекторы Бруно Таут и Эрнст Май сначала уехали из Германии в Россию, а потом первый из них переместился в Японию и затем в Турцию, а второй — в Африку. В свою очередь, их друзья и коллеги Вальтер Гропиус и Людвиг Мис ван дер Роэ «экспортировали» новую архитектуру из Германии в Америку, где она пустила мощные корни и приобрела принципиально новое качество.
Вообще, как ни кощунственно это звучит, вызванная трагическими обстоятельствами массовая миграция, исковеркавшая так много судеб, имела и некоторые положительные последствия. Именно в 1930-е и позднее в 1940-е годы в мировой культуре начался процесс необычайно интенсивного «перекрестного опыления», в результате которого в самых разных точках планеты формировались новые творческие группы, школы, направления и даже виды искусства. Не забудем, что Америка после войны вышла на авансцену мировых художественных процессов в значительной степени благодаря тому, что в эту наиболее удаленную, безопасную и перспективную страну в 1930-1940-е годы переехали деятели искусства из множества европейских стран.
Итак, 1930-е — время подведения итогов тех экстремальных эстетических и политических экспериментов, которые имели место в предшествующее десятилетие. Время разочарования, взросления и отрезвления от иллюзий. Одновременно это время, когда в воздухе висит предчувствие беспрецедентной по масштабам катастрофы, в неизбежность которой большинство людей отказывается верить. 1930-е — время, когда трещины, едва наметившиеся в предшествующие годы, превращаются в непреодолимые пропасти, а творческие оппоненты становятся непримиримыми политическими врагами. 1930-е — время оборотничества и подмен, массового самообмана и горьких индивидуальных прозрений. Одновременно это время самоуглубленного, сосредоточенного, исполненного рефлексии и великой мудрости творчества, какого не знали «золотые 1920-е». Ведь нередко художественные занятия становятся в эти годы последним оплотом веры, надежды и гармонии, последней ниточкой, связывающей между собой людей, эпохи и страны.
Настоящий сборник посвящен проблемам европейского искусства 1930-х годов, и потому формально отечественная история остается за его рамками. Однако общность и взаимосвязанность процессов, имевших место в этот период, не позволяют совсем обойти вниманием советское искусство. Авторы целого ряда статей проводят параллели с отечественным опытом и для этого нередко привлекают материал, связанный с художественной жизнью СССР в 1930-е годы. Впрочем, далеко не только благодаря включению этих фрагментов, внимательного читателя сборника сопровождает ощущение, что история отечественного искусства отражается и преломляется в европейской художественной истории, как в зеркале, пусть порой и искривленном. Такой опосредованный взгляд, подобный взгляду Персея, следившего за Медузой Горгоной в отражении собственного щита, помогает избавиться от штампов в восприятии, разглядеть и осознать то, что при иной оптике часто ускользает от нашего внимания. Впрочем, даже такие ухищрения не способны полностью избавить читателя от ощущения ужаса и боли, почти неизбежно сопровождающего нас при погружение в историю 1930-х годов.
Т. Ю. Гнедовская
Ответственный редактор
Примеры страниц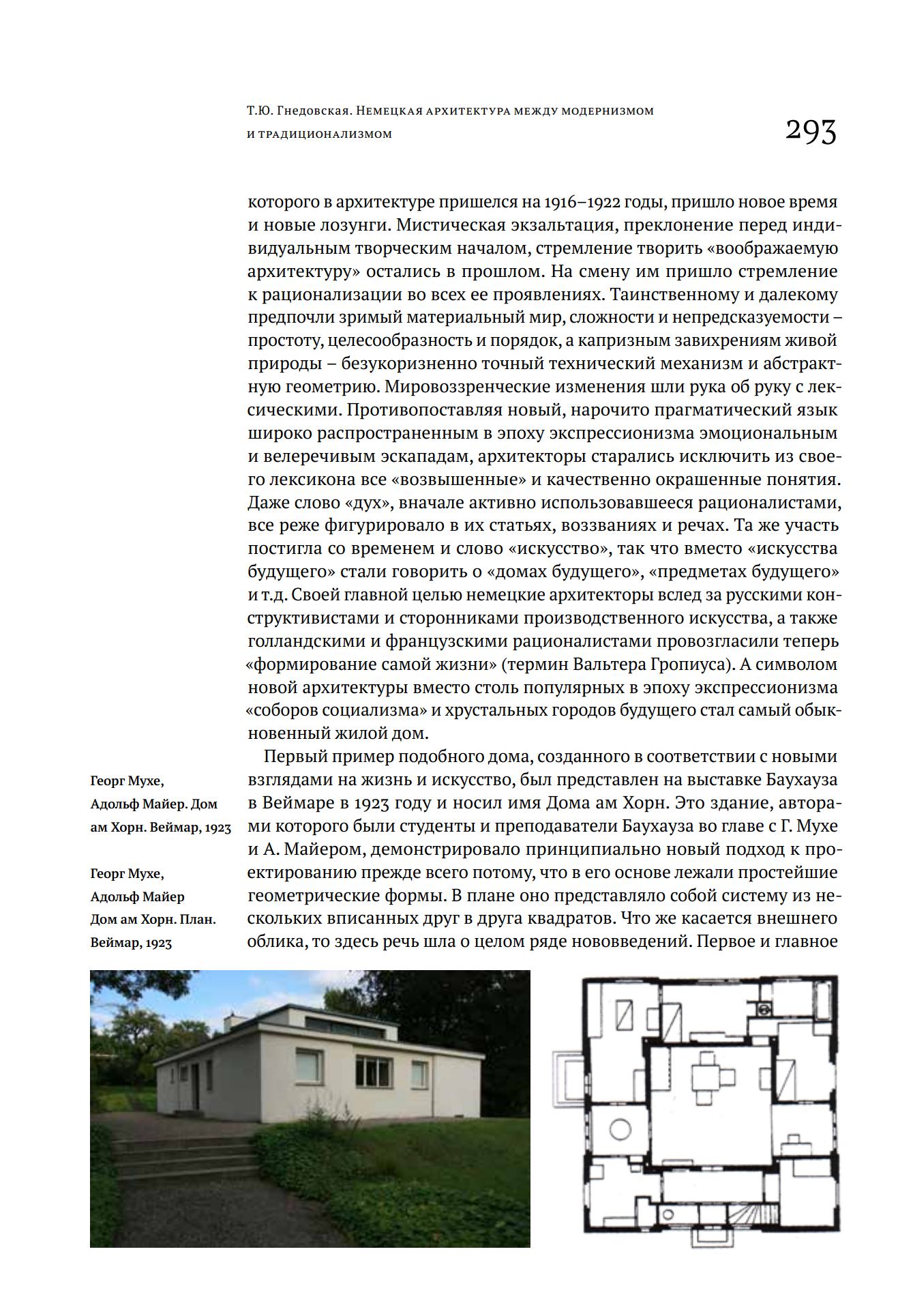 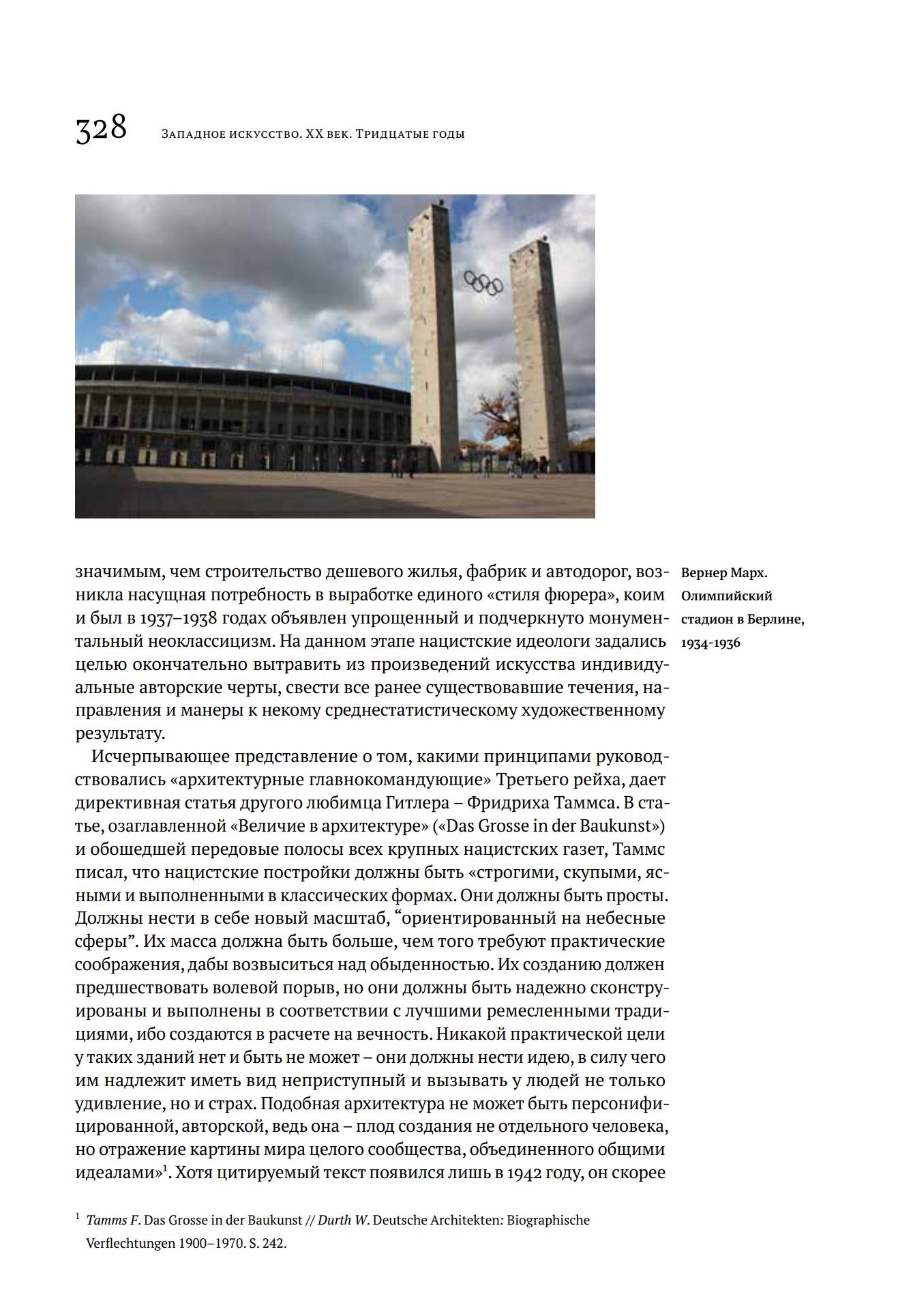
Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 3,7 МБ)
Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу 42@tehne.com.
1 июля 2023, 12:16
0 комментариев
|
Партнёры
|






Комментарии
Добавить комментарий