|
|
Дзига Вертов. Статьи, дневники, замыслы. — Москва, 1966 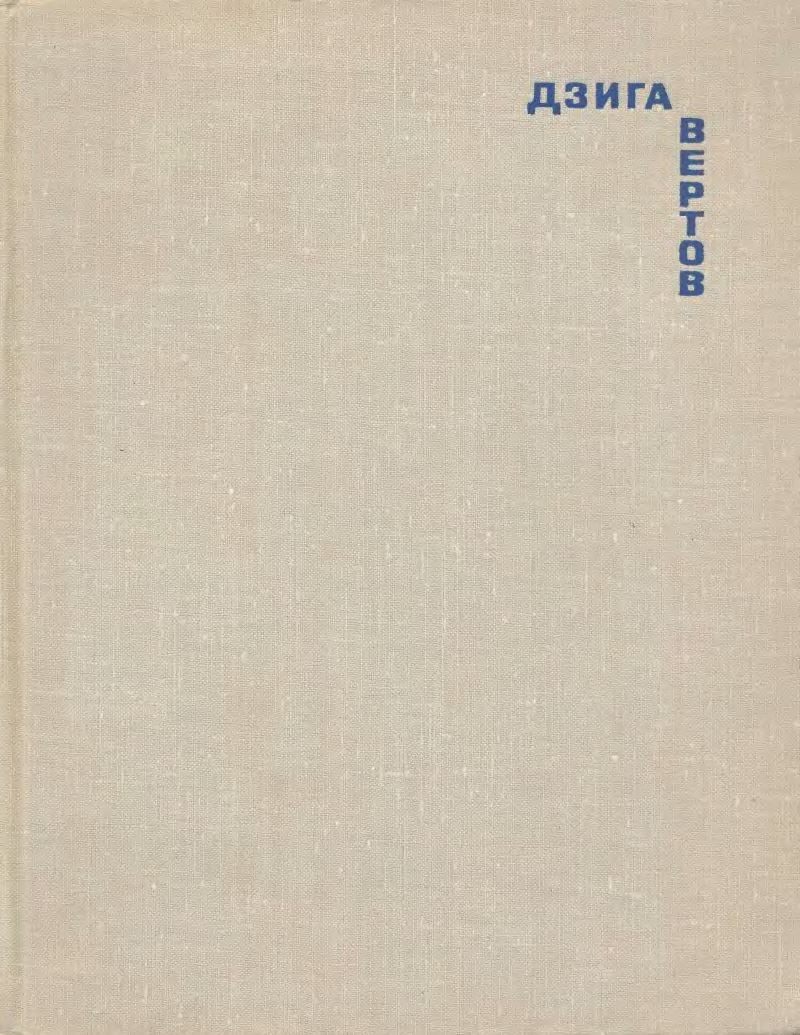 Дзига Вертов. Статьи, дневники, замыслы / Дзига Вертов ; Редактор-составитель, автор вступительной статьи и примечаний С. Дробашенко. — Москва : Искусство, 1966. — 320 с., ил.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ВЕРТОВА
В современном документальном кино крепнут и развиваются тенденции, признающие недостаточность внешнего, иллюстративного отображения действительности. Художники кино разных стран стремятся ныне к изображению на экране сложных, углубленных конфликтов общества и отдельной человеческой личности, ко все более достоверному (но отнюдь не упрощенному) показу окружающего нас мира. Подобные черты характерны для целого ряда лучших произведений советской и зарубежной кинопублицистики последних лет. В общей форме их можно определить как вновь пробудившееся настойчивое желание художников говорить правду.
Все эти явления, характерные для современной кинематографии, возникают не на пустом месте. Выражая дух новой эпохи, они тем не менее вполне определенно имеют под собой твердую историческую почву, следуют ранее сформировавшимся традициям.
В этой связи для современной творческой практики, равно как и для исследовательской, критической мысли, особый интерес представляет изучение исторического опыта кинематографа и, в частности, художественного наследия крупнейшего мастера документального фильма Дзиги Вертова.
История документального кино знает немало художников, чья деятельность была неустанным творческим трудом и выдающимся жизненным подвигом в искусстве.
Но вряд ли среди них можно назвать человека такой же яркой, целеустремленной, чистой и вместе с тем противоречивой, трудной (а порой даже трагичной) творческой и жизненной судьбы, как Дзига Вертов.
Художник исключительного дарования, темперамента, эмоциональности, Вертов всю жизнь непримиримо боролся за правду в искусстве, за киноправду. Он видел ее для себя не в красочных декорациях павильонов, не в поисках искусного сплетения интриги драмы, не в школах актерского мастерства. Декорациями его картин была подлинная действительность, актерами — его современники, реально окружающие его люди. Еще юношей, в самые ранние годы советского кино, он твердо избрал свой путь в искусстве. Строгое следование кинодокументу — осмысленному, отобранному из многих других, опоэтизированному чувством, кинодокументу, отражающему жизнь настоящую, жизнь «без маски», без игры, показывающему ее такой, какой она представала перед «глазом» возведенного художником в ранг волшебника киноаппарата, — таковы убеждения, которым Вертов оставался верен до конца своих дней. В утверждении могущественной силы кинодокументализма создавалась благодатная почва для выражения его таланта, для расцвета его творческой личности.
Увлекающийся, экспансивный, резкий, исполненный кипящей жизненной энергии, Дзига Вертов был сыном своего времени. Ни его фильмы, ни в еще большей мере его теоретические воззрения невозможно понять без учета того исторического процесса, с которым крепчайшими нитями связана вся его работа в кино. Взгляды Вертова на специфику и задачи киноискусства сформировались в годы величайшего в истории революционного переворота, в период слома старого и мучительного рождения нового общества.
Вертов принадлежал к той группе художественной интеллигенции, которую возглавлял Маяковский и которая была наиболее нетерпимой к прошлому, наиболее «бунтарской» среди многочисленных течений в искусстве первых послереволюционных лет. И потому нередко случалось так, что, ломая казавшиеся нерушимыми традиции, экспериментируя и изобретая, он с той же страстностью и увлеченностью защищал взгляды, идеи и теории, которые были далеки от его же собственных намерений и на поверку оказывались лишь пеной, накипью на поверхности грозно бурлящего котла эпохи.
Вертов не был свободен от ошибок. Но это не были только его личные заблуждения. Это были ошибки и заблуждения многих художников того времени, это были трудности роста новой культуры.
Биография Вертова значительна именно тем, что она отразила в себе дух своего времени и вышла далеко за рамки личной, единичной человеческой судьбы.
Но какую бы идею — подлинно новаторскую, прогрессивную или исторически ограниченную, ошибочную — ни защищал Вертов, защита эта всегда шла от его глубокого внутреннего чувства, от убежденности в правоте, переполнявшей, целиком захватывавшей его.
Вертов всегда страстен, увлечен, исполнен пафоса. Он возмущается или радуется, страдает или негодует. Эмоциональность сообщает ему остроту зрения. Даже в его ошибочных высказываниях нередко обнаруживается интуитивное предвидение и то рациональное зерно, которое дало — или еще даст — всходы в будущем.
Вертов рассматривал кинематограф как активное средство воспитания, как большой человеческий документ жизни. И так как он был не сухим, а горячим, темпераментным художником, то просто отобразить жизнь ему казалось мало: он должен был еще обязательно выразить свое отношение к ней. Средствами документального кино он сумел поставить столь значительные, столь сложные проблемы, что его фильмы опередили свою эпоху. Достаточно сказать, что к разработке аналогичной тематики актерский кинематограф приходит лишь длительное время спустя.
«Когда-то, в 20-х годах, хроника и документальный фильм вели наше киноискусство.
На многих фильмах зарождавшейся тогда советской художественной кинематографии лежал несомненный отпечаток того, что создавала тогдашняя документальная кинематография.
Острота восприятия материала и факта; острота зрения и остроумие в сочетании увиденного; внедрение в действительность и в жизнь; и еще многое, многое внес документальный фильм в стиль советской кинематографии»¹.
____________
¹ С. М. Эйзенштейн, Избранные статьи, М., «Искусство», 1956, стр. 116—117.
Эти слова С. Эйзенштейна характеризуют целый исторический период развития советского кино. Они относятся ко всему большому отряду документалистов 20-х годов, определяют новаторский вклад многочисленных работников хроники тех лет, в числе которых были такие великолепные мастера своего дела, пионеры советской кинематографии, как Э. Тиссэ, А. Левицкий, Э. Шуб, И. Копалин, Я. Блиох, П. Новицкий, В. Ерофеев, Г. Гибер, А. Лемберг, П. Ермолов и многие другие.
Они верны и характерны прежде всего в отношении творчества Дзиги Вертова.
Вертов был художником-новатором. Но он был также художником-бунтарем, яростным полемистом, чьи мысли нередко облекались в нарочито заостренные, гротескные фразы и образы, чьи статьи были направлены на «разжигание страстей», на «эпатирование» публики. Он боролся с противниками документального фильма, против засилья на советских экранах заграничных боевиков и душещипательных драм. И в этой борьбе он охотно и умело использовал оружие едкой насмешки, гиперболизации, иронии. Крайности, преувеличения, молодой задор сочетались в его фильмах и теоретических статьях с пафосом первооткрывателя, дерзкого исследователя специфики нового искусства, изобретателя.
Как всякий подлинный, большой художник, Вертов шел в творчестве целиной. Высшим «авторитетом» его искусства была правда. Он прорывался к ней напористо и целеустремленно. Встречаясь с препятствиями, он преодолевал их.
Так же поступал он и в жизни.
И не удивительно, что его творческая и личная, человеческая судьба складывалась трудно. Его сопровождали на жизненном пути не только признание, восхищение и слава, но и непонимание, насмешки, зависть. С ним рядом были его друзья и враги.
Но главным для него всегда оставалась работа, радость созидания, любимый труд, которому он без остатка отдал все свои силы, талант, жизнь...
Дзига Вертов (Денис Аркадьевич Вертов, 1896—1954) получил мировое признание как выдающийся режиссер, создатель нового жанра поэтического документального фильма, мастер искусства образной публицистики.
Имя Вертова стоит в одном ряду с именами крупнейших художников советского экрана — С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, А. Довженко. Его знают тысячи людей в разных странах как автора смелых, необычных фильмов — «Ленинская киноправда», «Киноглаз», «Шагай, Совет!», «Шестая часть мира», «Одиннадцатый», «Человек с киноаппаратом», «Три песни о Ленине». Открытые им новаторские методы съемки и монтажа документального фильма оказали воздействие на все развитие мирового кинодокументализма.
И вместе с тем Вертов как теоретик киноискусства до сих пор почти неизвестен. По установившейся традиции его наследие в этой области принято считать путаным, малозначительным. Выдвинутые им в 20-е годы теории кинодокументализма нередко без достаточных оснований расцениваются как формалистические, подготовившие почву для всякого рода извращений в искусстве, хотя подлинное содержание их, в сущности, не раскрыто. Бытует мнение, что Вертов, практически применив новые поэтические конструкции документального фильма, не сумел осмыслить их — или осмыслил неверно. Большинство исследователей склонно оценивать его как режиссера, чей творческий темперамент, чье мастерство шли впереди его мысли.
Подобные представления неверны. Их нельзя объяснить не чем иным, как только прямым следствием длительного периода замалчивания фильмов, статей и самого имени Дзиги Вертова.
Вертов был не только новатором-кинорежиссером. Он был еще и теоретиком киноискусства — мыслителем, философом, исследователем важнейших специфических свойств кино, создателем теоретических основ, поэтики документального фильма. Им написаны десятки серьезных работ, обобщающих его творческий опыт, выработана целостная концепция документализма. Многие заметки в его дневниках поражают верностью и глубиной. Теоретическое наследие Вертова — вклад в эстетику киноискусства. Оно необходимо для понимания исторического процесса развития кинематографа, но одновременно сохраняет всю свою актуальность и научное значение до наших дней.
Весь этот материал до последнего времени фактически был недоступен широкому читателю. Разбросанный по архивам и многочисленным периодическим изданиям, он, естественно, не мог дать правильного, а главное, исчерпывающего представления о Вертове — теоретике киноискусства. Известны были лишь немногие и далеко не лучшие из его статей.
Собранное и систематизированное в настоящем сборнике теоретическое наследие Дзиги Вертова призвано восполнить этот пробел. Оно впервые раскрывает перед нами сильный и яркий образ замечательного художника и человека.
Каждый, кто любит кинематограф, кто интересуется судьбами его важнейшего ответвления — документального кино, сможет наконец, прочтя эту книгу, составить себе полное и непредвзятое представление о Вертове — одном из энтузиастов и подвижников революционной идеи, одном из глубоких, честных и принципиальных художников минувшей, но еще такой живой в нашей памяти эпохи.
Сборник открывается манифестом «Мы» (1922).
Это было первое программное выступление Дзиги Вертова — острополемическое, восторженное, полное огромной веры в будущие возможности кино.
Уже здесь Вертов четко намечает главную линию водораздела, пролегающего между новаторским, революционным и буржуазным, мещанским кино. Расчеты дельцов и коммерсантов, «стадо старьевщиков», торгующее тряпьем, он противопоставляет «подлинному киночеству» — новому, рожденному революцией киноискусству, призванному активно вмешиваться в судьбы людей, в борьбу за справедливое переустройство жизни. Вертов утверждает, что революционное кино может решить эту задачу, лишь резко отмежевавшись от старой кинематографии и одновременно взяв на вооружение все новейшие достижения в области киноязыка — специфической художественной формы фильма. Из «сладких объятий романса», из «отравы психологического романа», из «лап Театра любовника» он приглашает кинематографистов «в чистое поле, в пространство с четырьмя измерениями (3+время), в поиски своего материала, своего метра и ритма». «Каждый любящий свое искусство ищет сущности своей техники», — пишет он. И далее: «Развинченным нервам кинематографии нужна суровая система точных движений».
Эти две темы, два перспективных творческих задания — борьба против ограниченного мещанского кино и стремление к всестороннему совершенствованию выразительных средств экрана, — составившие основное содержание манифеста «Мы», останутся для Вертова на долгие годы предметом неустанного внимания. Он будет развивать их и практически, в фильмах, и теоретически — во многих своих выступлениях и статьях. В сущности, он смыкается в этих тезисах с главным направлением работы всей передовой советской кинематографии, ищущей в 20-е годы не столько возможностей продолжения традиционных форм, сколько новаторства, художественных открытий. Именно так строили и осуществляли свою творческую программу в те годы такие художники актерского кино, как Л. Кулешов, С. Эйзенштейн, Г. Козинцев, И. Трауберг, В. Пудовкин, А. Довженко. «Мы приходили в кино как бедуины или золотоискатели, — писал С. Эйзенштейн. — На голое место. На место, таившее невообразимые возможности»¹.
____________
¹ С. Эйзенштейн, Средняя из трех. — «Советское кино», 1934, № 11—12, стр. 55.
Вместе с тем как в этой, так и в некоторых более поздних статьях («Киноки. Переворот» и др.) полемический пафос новатора и «разрушителя» приводит Дзигу Вертова к серьезным теоретическим ошибкам.
Недооценивая, с одной стороны, роль эстетического начала в искусстве, отрицая такие жанры кино, как психологическая драма, и абсолютизируя, с другой, технические средства выразительности, он в манифесте «Мы» пишет:
«Психологическое» мешает человеку быть точным, как секундомер, и препятствует его стремлению породниться с машиной.
У нас нет оснований в искусстве движения уделять главное внимание сегодняшнему человеку.
Стыдно перед машинами за неумение людей держать себя, но что же делать, когда безошибочные манеры электричества волнуют нас больше, чем беспорядочная спешка активных и разлагающая вялость пассивных людей.
Нам радость пляшущих пил на лесопилке понятнее и ближе радости человечьих танцулек.
Мы исключаем временно человека как объект киносъемки за его неумение руководить своими движениями.
Наш путь — от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку».
Подобные декларации, столь характерные для стиля художественных манифестов тех лет, свойственны, однако, лишь раннему Вертову. Призыв «породниться с машиной», превознесение «машинного ритма» движения, «динамической геометрии», «поэзии рычагов, колес и стальных крыльев» — все это сродни взглядам лефовцев, к которым в начале 20-х годов был близок художник. Это был и их язык и их образ мыслей. Они нашли известное отражение в практической работе кинорежиссера, однако не играли в ней решающей роли. Вертов никогда в своих фильмах даже временно не исключал современного ему человека как объект съемки, никогда не уклонялся от изображения быта людей, от фиксации живой действительности. Наоборот, именно эти темы, эти мотивы с самого начала заняли главенствующее место в его творчестве. Необходимо также, оценивая его ранние статьи, всегда помнить, что они являлись для темпераментного, увлекающегося режиссера своеобразными художественными произведениями, и далеко не каждое определение, каждая фраза в них — академический термин.
Следует вместе с тем со всей определенностью отметить, что во всех этих теориях проявилась не только историческая ограниченность и «путаница в умах» художников. Сказать так — значило бы открыть лишь часть истины. Ибо дело заключалось не только в том, что Вертов в начале своей деятельности искаженно, неправильно трактовал задачи и содержание зарождающегося революционного искусства. И Дзига Вертов и Л. Кулешов, как и многие лефовцы, настойчиво подчеркивающие бурный рост техники, влияние технических открытий на «способы идеологических представлений», обращающие особое внимание на утилитарную сторону искусства, в чем-то заблуждаясь и преувеличивая, были в то же время несомненно правы в своем стремлении поднять советское киноискусство до уровня современной им общечеловеческой (и в том числе производственной) культуры. Они были правы и исторически прогрессивны, стремясь освободить кино не только от мещанских влияний, но и от расплывчатости, архаизма, аморфности идейного содержания и нечеткости конструктивных форм. Именно эти художники, в противовес мнению сторонников «постепенной эволюции» искусства, выдвинули в начале 20-х годов первостепенную по важности задачу решительной, коренной перестройки и технического перевооружения кинематографии, без решения которой, как было доказано всем ходом исторического прогресса, создание нового кино оказалось бы невозможным.
Вся работа Вертова шла в плане добывания золота специфики искусства, в плане развития особенностей кинематографа.
Вертов отмечает несовершенство человеческого зрения. Киноаппарат, утверждает он, дал орудие более совершенного восприятия мира, и нужно его полностью использовать. Это позволит человеку увидеть больше и лучше. Так, на вполне реальной, материалистической основе рождается его знаменитая теория «киноглаза».
Вертов считает «киноглаз» определяющим новым принципом документализма. Он видит в нем выразительное средство, которое помогает изучать мир глазами художника.
Первое упоминание о «киноглазе» в опубликованных работах режиссера относится к 1923 году. В заметках «Киноки. Переворот», напечатанных журналом «Леф», Вертов пишет:
«Мы не возражаем против подкопа кинематографии под литературу, под театр, мы вполне сочувствуем использованию кино для всех отраслей науки, но мы определяем эти функции кино как побочные, как отходящие от него ответвления.
Основное и самое главное:
Киноощущение мира.
Исходным пунктом является:
использование киноаппарата как киноглаза, более совершенного, чем глаз человеческий, для исследования хаоса зрительных явлений, наполняющих пространство».
Но, как свидетельствует сам Вертов, первые мысли о «киноглазе» возникли у него значительно раньше.
В подготовительных набросках статьи «Рождение «киноглаза», впервые публикуемых в настоящем сборнике, он пишет:
«Это началось с ранних лет. С сочинения разных фантастических романов («Железная рука», «Восстание в Мексике»). С небольших очерков («Охота на китов», «Рыбная ловля»). С поэм («Маша»). С эпиграмм и сатирических стихов («Пуришкевич», «Девушка с веснушками»).
Затем это превратилось в увлечение монтажом стенографических записей, грамзаписей. В особый интерес к вопросу о возможности записывать документальные звуки. В опыты по записи словами и буквами шума водопада, звуков лесопильного завода и т. д.
И однажды, весной 1918 года, — возвращение с вокзала. В ушах еще вздохи и стуки отходящего поезда... чья-то ругань... поцелуй... чье-то восклицание... Смех, свисток, голоса, удары вокзального колокола, пыхтение паровоза... Шепоты, возгласы, прощальные приветствия... И мысли на ходу: надо, наконец, достать аппарат, который будет не описывать, а записывать, фотографировать эти звуки. Иначе их сорганизовать, смонтировать нельзя. Они убегают, как убегает время. Но, может быть, киноаппарат? Записывать видимое... Организовывать не слышимый, а видимый мир. Может быть, в этом — выход?..
В этот момент — встреча с Мих. Кольцовым, который предложил работать в кино».
В 1918 году, в момент изобретения, «киноглаз» понимался Вертовым упрощенно, односторонне. Вначале режиссер истолковывал его как «рапидный глаз» — ускоренную съемку жизненного события. Практически это было воплощено в съемке прыжка Вертова с верхушки грота во дворе одного из московских зданий. Быстрое вращение ручки киноаппарата позволило зафиксировать и как бы «растянуть во времени» при проекции пленки на экран смену чувств на лице прыгающего человека, «увидеть», «прочесть» его мысли.
В дальнейшем это понятие все более расширяется. Оно обогащается такими определениями, как «теория интервалов», «киноанализ», «теория относительности на экране», «негатив времени» (обратная съемка), такими съемочными методами и приемами, как мультипликация, микросъемка, рентгеносъемка, съемка движущейся камерой, управление киноаппаратами на расстоянии и т. д. Но при всем том Вертов, как и прежде, никогда не теряет из виду смысл, задачу своих опытов.
«Киноглаз» для Вертова — средство насильственной переброски глаз зрителя на те предметы, которые «видеть необходимо», средство тщательного исследования и целенаправленной организации «видимого мира», стремление углубиться в жизнь до такой степени, чтобы понятие «интимное» перестало существовать. Метод «киноглаза» — это научно-экспериментальный метод исследования действительности, пишет Вертов. Он основывается, во-первых, на «плановой фиксации на пленке жизненных фактов» и, во-вторых, на соответствующей «плановой организации зафиксированного на пленке документального киноматериала». «Киноглаз» = киновижу (вижу через киноаппарат) + кинопишу (записываю аппаратом на пленке) + киноорганизую (монтирую)...». Иными словами, «киноглаз» — это документальная кинорасшифровка видимого, а также и невидимого невооруженным человеческим глазом мира».
Развивая свою мысль, Вертов указывает, что в широком смысле «киноглаз» — не только название группы киноработников, не только совокупность определенных технических средств съемки фильма и даже не какое-либо течение в искусстве — левое или правое. «Киноглаз» — это непрерывно нарастающее движение за воздействие фактами против воздействия выдумкой, как бы последняя сильно ни впечатляла» («От «киноглаза» к «радиоглазу»).
Последнее определение, тесно связанное с распространенной в 20-е годы теорией «литературы факта», документальности искусства и т. д., несомненно односторонне. Но опыт творческой практики Вертова вплотную подводит нас к пониманию не только общеэстетического, но и прямого общественно-политического содержания этого понятия.
«Киноглаз» для Вертова никогда не был абстрактным техническим приемом. Как бы ни увлекался документалист в отдельные периоды своего творчества экспериментами с камерой и пленкой, какое бы значение ни придавал выразительности, остроте съемок и монтажа, перед ним всегда стояла его главная жизненная задача, четко найденная, ясная для него цель. Этой целью было открытие художественной правды явления действительности, правды жизни.
Уже в статье «Рождение «киноглаза», датированной 1924 годом, Вертов пишет, что разные определения «киноглаза» не противоречили, а взаимно дополняли друг друга, так как под ним подразумевались «все киносредства, все киноизобретения, все приемы и способы, которыми можно было бы вскрыть и показать правду.
Не «киноглаз» ради «киноглаза», а правда средствами и возможностями «киноглаза», т. е. киноправда».
Вся работа Вертова в кинематографе, все его искания пронизаны пафосом борьбы за идейное содержание, политическую воздейственность кинодокумента, направлены к «раскрепощению зрения пролетариата», к «коммунистической расшифровке» мира. В борьбе за развитие советской кинопублицистики, писал Вертов, «мы резко и упорно подчеркивали изобретательский, патетически-революционный (и по форме и по содержанию) характер «киноглазовских» документальных фильмов. Мы говорили о наших документальных фильмах как о пафосе фактов, как об энтузиазме фактов. На нападения критиков по этому вопросу мы отвечали, что документальный фильм «киноглаза» — это не только документальный протокол, это революционный маяк на фоне театральных шаблонов мирового кинопроизводства» («Ответы на вопросы»).
Как видим, Вертов правильно отграничивает свою «киноправду» от объективистского подхода к фиксации на пленке явлений жизни.
И этим он особенно дорог социалистическому искусству, в этом «киноправда» вплотную смыкается с коммунистической, партийной правдой.
Сказанного достаточно, чтобы понять, как неправы были те критики и исследователи кино, которые, как в то время, так и позже, усматривали в вертовском «киноглазе» некое мифическое «шестое чувство» или оторванный от жизни формальный эксперимент.
В доказательство формализма Вертова нередко цитируются следующие строки из его раннего манифеста:
«Я киноглаз, я создаю человека более совершенного, чем созданный Адам, я создаю тысячи разных людей по разным предварительным чертежам и схемам.
Я киноглаз.
Я у одного беру руки, самые сильные и самые ловкие, у другого беру ноги, самые стройные и самые быстрые, у третьего голову, самую красивую и самую выразительную, и монтажом создаю нового, совершенного человека.
Я — киноглаз. Я — глаз механический. Я, машина, показываю вам мир таким, каким только я его смогу увидеть...» и т. д. («Киноки. Переворот») .
Нечто подобное действительно делали в те годы как сам Вертов, так и Л. Кулешов и некоторые другие кинематографисты. Экспериментируя, исследуя выразительные возможности камеры, они нащупывали пути создания неожиданных монтажных композиций, сочетали «несочетаемые» куски пленки. «Из открывающихся окон, выглядывающих из них людей, скачущей кавалерии, сигналов, бегущих мальчишек, воды, хлынувшей через взорванную плотину, равномерного шага пехоты можно смонтировать и праздник, скажем, постройки электростанции, и занятие неприятелем мирного города»¹,— писал Кулешов. 20-е годы были в этом отношении периодом усиленной разработки технологии нового искусства, осмысления формальных возможностей кино.
____________
¹ Л. Кулешов, Искусство кино, «Теа-кинопечать», 1929, стр. 161.
Но при всем том ясно, что приведенное высказывание Вертова ни при каких обстоятельствах не следовало понимать буквально. Восхищение могуществом киноаппарата, как уже отмечалось выше, нередко выливалось в его статьях в свойственную ему образную и даже метафорическую, пафосную, патетическую форму. Так было и на этот раз.
Заметим попутно, что и в узкоспециальной области разработки «азбуки киноязыка» «киноглаз» Вертова явился отнюдь не только профессиональным техническим новшеством, но и перспективным творческим открытием.
В те годы считалось непреложной истиной, например, что снятый сверху план может появиться на экране лишь в том случае, если ему будет предшествовать кадр человека, глядящего сверху вниз. По установившимся канонам возникновение такого рода изображений непременно нужно было замотивировать, оправдать.
Вертов решительно восстает против подобных «правил». Он отказывается от примитивных мотивировок монтажной переброски действия. Без всякой подготовки, неожиданно для зрителя он дает монтажные врезки сверхкрупных планов лиц людей, снятые в непривычных, «остраненных» ракурсах предметы, мотивируя это не элементарной логикой киноиллюстрации, не натуралистической описательностью традиционного монтажа, а эмоциональным, напряженным ритмом действия, взволнованностью авторского повествования, передающимися в свою очередь зрителю.
В отдельных случаях Вертов доходит в подобном заострении изобразительного образа до крайностей. Несколько десятилетий, например, исследователи кино пытаются объяснить известный кадр из «Человека с киноаппаратом», показывающий, как «раскалывается» Большой театр. Многие из них, отчаявшись в успехе, объявляют эту сцену «бессмыслицей», «оптическим трюком», «фокусом» и т. д.
Между тем изобразительный ряд фильмов Вертова лишен неоправданных художественных решений. Меньше всего режиссер увлекался «чистой» трюковой съемкой. И в нашем примере из «Человека с киноаппаратом» кадр «разламывающегося» на части здания — это, по всей очевидности, кинематографическая метафора, передающая ощущения человека, захваченного лихорадочной жизнью города, растерянного, оглушенного суетой, шумом улиц, человека, у которого от всего этого буквально «двоится в глазах». Кадр деформации Большого театра отчетливо возникает как одно из ударных зрительных выражений апофеоза уличного движения, как момент наивысшего напряжения монтажной динамики этой части фильма, как образ зрения человека, оглушенного городом.
Точно так же находят свое смысловое объяснение снятые обратной съемкой эпизоды превращения каравая хлеба в рожь и туши быка — в живое животное (фильм «Киноглаз»). Вертов мотивирует их появление желанием наглядно доказать ту мысль, что все вещи делает трудящийся и они как бы вновь возвращаются к нему («О фильме «Киноглаз»).
Можно, разумеется, спорить о мере субъективного начала в творчестве, о том, удалось или не удалось режиссеру в том или ином случае художественно точно воплотить свой замысел. Но что он каждый раз имел место — в этом нет никаких сомнений.
В середине 20-х годов открытие «киноглаза», обогащенное к тому времени экспериментом, было повторено и развито в работах ряда других мастеров революционного кино. Как мы уже отмечали, в период становления нового киноискусства, в годы поисков и осмысления его формальных возможностей, до того никак еще не проявленных, исследование технических свойств съемочной камеры и монтажа, естественно, играло первенствующую роль.
Вспоминая о съемке фильма «Механика головного мозга» (1925), В. Пудовкин писал:
«Киноаппарат со своим всюду проникающим глазом, возможностями монтажа, позволяющими склейкой кусков вскрывать связь между отдельными явлениями действительности, казались мне не только средством для описания уже проделанных экспериментов, но сами подсказывали возможности для новых самостоятельных опытов. Мне было ясно, что точность фиксации движений позволяет исследовать их гораздо глубже, чем простое наблюдение глазом»¹.
____________
¹ В. Пудовкин, Избранные статьи, М., «Искусство», 1950, стр. 41.
На совершенно необычном, новаторском, ломающем установившиеся традиции использовании камеры и монтажа строилась и вся работа в кино С. Эйзенштейна, немецкого документалиста Вальтера Руттмана, голландского режиссера и оператора Йориса Ивенса и многих других.
Но до того, как все это произошло (и надо, наконец, сказать об этом определенно и прямо), Вертов был первым документалистом, решительно восставшим против утвердившегося в старом кинематографе понимания съемочного аппарата как простого фиксатора действительности и монтажа — как простой склейки кадров. Его «киноглаз» пробил первую серьезную брешь в этой броне традиционных устоев, впервые смело нарушил самодовольное благодушие мещанского кино.
Открытие киноаппарата как инструмента углубленного исследования мира дало в руки Вертова сильнейшее творческое оружие. «Киноглаз» научил его внимательно всматриваться в жизнь, выработал привычку не ограничиваться наблюдением поверхностного облика вещей, привил вкус к детальному изучению действительности. Метод «киноглаза», дополненный рядом других находок, явился той основой, став на которую режиссер смог снять свои лучшие поэтические картины.
С «киноглазом» Вертов связывал и второе важное звено своей теории документализма — программу съемки «жизни врасплох».
В советском киноведении распространено мнение, что этот метод означал в его истолковании фиксацию случайных событий действительности, что он якобы ориентировал оператора на самотек, на отображение фактов безотносительно к их содержанию.
Такого рода взгляды не отражают подлинного существа творческой лаборатории режиссера. Истинное содержание этой программы — именно такое, какое вкладывал в нее сам Вертов (и осуществлял на практике), — было иным.
Вертов был страстным, убежденным защитником и пропагандистом революции. Показу нового в жизни, борьбе за утверждение социалистического уклада общества он отдал все свои силы, весь свой талант. К этой цели были направлены все без исключения его фильмы, к этому он призывал во всех — и устных и печатных — выступлениях. «Видеть и слышать жизнь, подмечать ее изгибы и переломы, улавливать хруст старых костей быта под прессом Революции, следить за ростом молодого советского организма, фиксировать и организовывать отдельные характерные жизненные явления в целое, в экстракт, в вывод — вот наша ближайшая задача», — писал Вертов («Художественная драма и «киноглаз»). Эти слова не были пустой декларацией. Они были его подлинной жизненной программой, программой действия. И этой его убежденности не пытался отрицать никто — даже самые яростные его противники.
Так как же мог при этих условиях Вертов выступать проповедником безыдейности киносъемки? Как мог он давать задания своим операторам снимать первое, что попадается им на глаза? Можно ли понять и объяснить подобное противоречие?
Объяснение очень простое: противоречий такого рода у Вертова никогда не было.
Раскрывая сущность своего метода, режиссер не раз говорил о том, что для успеха дела необходимо сочетание «раскрепощенного человеческого глаза» («киноглаза») и «стратегического мозга человека», направляющего его, что только в этом случае достигается положительный результат съемки: «...необычайно свежее, а потому интересное представление даже о самых обыденных вещах» («Киноки. Переворот»). Он говорит о «киноке-пилоте» и «киноке-инженере», управляющем движениями киноаппарата с целью четкого выявления идейного содержания съемок. В докладной записке дирекции Госкино о съемке фильма «Киноглаз» Вертов от имени Совета Троих (высшего органа «киноков») пишет: «Совет Троих, опираясь политически на коммунистическую программу, стремится внедрить в кино идеи ленинизма и вложить их глубочайшее содержание... в труд и мысли самого рабочего класса». Здесь же он делает заявку на основной творческий принцип документального кино, полностью сохранивший свое значение до наших дней, указывая, что все действующие лица фильма «продолжают делать в жизни то, что они делают обычно». Подчеркивая роль режиссера — организатора съемочного процесса, Вертов пишет: «В путаницу жизни решительно входят: 1) киноглаз, оспаривающий зрительное представление о мире у человеческого глаза и предлагающий свое «вижу» и 2) кинок-монтажер, организующий впервые так увиденные минуты жизнестроения» («Киноки. Переворот»), «Киноки» будут «активнейшими участниками мирового переустройства», — увлеченно декларирует режиссер. Их работа явится не только «барометром общего состояния народных масс, но и регулятором массового слуха и зрения освобожденного человечества» (из программы «Киноглаз»).
Вертов отчетливо указывает на необходимость вдумчивого отбора фактов при документальной съемке. Набрасывая в июне 1924 года тезисы доклада на совещании «киноков» в Художественном театре о «Киноправде», он пишет:
«Киноправда» делается из материала так же, как дом делается из кирпичей. Из кирпичей можно сложить и печь, и кремлевскую стену, и многое другое. Из заснятого материала можно выстроить разные вещи. Так же, как нужны хорошие кирпичи для дома, для организации киновещи нужен хороший киноматериал».
Мы намеренно дали здесь подборку некоторых (но далеко не всех!) документов, относящихся к 1923—1924 годам — периоду, когда режиссер еще только приступал к серьезным теоретическим обобщениям. Поздние высказывания Вертова по всем этим вопросам еще более «реалистичны». Но, как нетрудно заметить, и в том, что приведено на этих страницах, содержится целостная и для того времени совершенно новая теория съемки документального фильма.
В 1929 году в одном из своих выступлений Дзига Вертов описывает случай, который позволяет нам уловить еще одну тонкую и немаловажную грань теории съемки «жизни врасплох» применительно к фиксации поведения человека.
Документалист вспоминает о том, как однажды в павильоне киностудии во время съемок какого-то игрового фильма ему удалось снять «врасплох» актрису, только что закончившую репетицию. Женщина целиком находилась под впечатлением сыгранного отрывка, она еще не успела выйти из образа, стать «сама собой». Вот этот-то переходный момент и зафиксировал Вертов. И его съемка по глубине проникновения в человеческую психологию, по изображению правды его состояния, правды чувства оказалась лучшим из всего того, что было снято режиссером игрового фильма.
Снять «по-киноглазовски» подобные моменты, говорит Вертов, — значит показать «синхронность» или «асинхронность» актера и человека, совпадение или несовпадение слов и мыслей, то есть, иными словами, не выдавать игру на сцене за поведение в жизни, и наоборот. «Полная ясность. Не Петров перед вами, а Иванов, играющий роль Петрова» (дневник, 1936).
В том же месте дневника Вертов приводит заметку, опубликованную в «Правде» 22 сентября 1936 года и рассказывающую о разоблачении вора, скрывавшегося под маской контролера сберкассы. Документалист пишет: «Если киноправда — это правда, показанная средствами «киноглаза», то снимок контролера будет «киноглазовским» только в том случае, если с него будет сброшена маска, если за маской контролера будет виден вор». А лучшее средство для этого — скрытое наблюдение, скрытая съемка, аппарат-«невидимка».
Тот же — и для разоблачения всех других двойников, играющих роль в жизни: авантюристов, льстецов, бюрократов. «Показать их без маски — какая трудная, но благодарная задача!»
По прошествии нескольких лет, в конце войны, Вертов вновь возвращается к той же проблеме. В его дневнике за 1944 год мы читаем:
«Повторение — единственно невозможная вещь на земле. Если я не зафиксирую на пленке то, что сейчас вижу (одновременно с тем, как вижу), то я точно этого никогда не зафиксирую. Ставлю диагноз и фиксирую одновременно. Ни позже, ни раньше, а только в данный момент. Через секунду будет уже другое. Лучшее или худшее, но другое».
«Особенно это касается съемки поведения людей,— продолжает режиссер. — Писать сценарий о документальном поведении человека заранее можно, если знаешь, что с человеком в ближайшее время произойдет. Но это настолько схематично и приблизительно, что никакого представления о том, что получится, на экране, в сущности, не дает. Человек раскрывается в редкие мгновения, которые нужно уловить и зафиксировать одновременно. Иначе лучше снимать актера. По крайней мере — хорошая игра. В документальном кино не может быть и речи о предварительном «точном» согласовании. Если «согласовывать» выстрел — промах будет всегда».
Отсюда ясно, какое условное, приблизительное значение может иметь при съемке «жизни врасплох» сценарий. В статье «Киноглаз» Вертов указывает, что фильмы «киноков» строятся не «пером литератора», а организацией самого жизненного материала.
«Но значит ли это, что мы работаем наобум, без мысли и без плана? — спрашивает он. — Ничего подобного».
И далее, уточняя эту мысль, Вертов пишет о двух видах сценария: один — для игрового фильма (он сравнивает его с рассказом про обследование, скажем, жилищ безработных, написанным до того, как это обследование произошло), другой — для документального. В последнем случае его можно было бы сравнить с предварительным планом комиссии, направляющейся на обследование и набрасывающей лишь самый примерный эскиз действий.
Вообще же словами описать фильм нельзя. В любом случае это не будет равноценной художественной картиной, так как специфические выразительные средства искусства различны. Самый талантливый рассказ не заменит кинематографического действия, так же, как «либретто не заменяет пантомимы, так же, как литературные пояснения к произведениям Скрябина никакого представления о его музыке не дают». Особенно подробно Вертов разрабатывает эту тему в статьях, рассматривающих сложное полифоническое строение «Трех песен о Ленине».
По сути дела, съемка «жизни врасплох» означала для Вертова примерно то же, что в современном кинематографе понимается под репортажным методом.
Вертов не ограничивался одним этим приемом. В подготовительных заметках к одной из статей он называет (пользуясь, естественно, своей терминологией) три главных вида хроникально-документальной фиксации действительности:
«Киноглаз и поцелуй (скрытая съемка);
киноглаз и пожар (съемка врасплох);
киноглаз в снежную ночь (наблюдение за местом)».
Однако в более широком, философском истолковании эта программа знаменовала для режиссера и нечто гораздо большее. Как и «киноглаз», она была для него средством отображения жизни без фальши и лжи — в чем бы они ни проявлялись. Вертов воспринимал ее как свой надежный творческий метод, как ясную целевую установку работы, как путь, ведущий его в мир обнаженной правды, который он, что бы с ним ни случалось в жизни, никогда не переставал искать.
Историческая ошибка А. Гана, О. Брика и других лефовцев (а также и Дзиги Вертова) состояла в том, что все они неправомерно преувеличивали роль документального кино и видели в нем единственную форму революционного новаторства.
Вертов так прямо и говорил:
«Я еще раз вас убеждаю:
Путь для развития революционного кино найден.
Он лежит через головы киноактеров и крыши ателье в жизнь — в настоящую многодрамную и многодетективную действительность» («О значении хроники»).
Полностью разделяя ошибочную лефовскую теорию «литературы факта» как единственного пути, по которому должно идти новое искусство, Вертов едко, иронически пишет об игровом кино, ставящем между действительностью и зрителем «призму актерской игры», выступает против использования в кинематографе методов и традиций других искусств.
Вертовское отрицание искусства, как правило, объяснялось критикой «слабой философской подготовкой» художника, влиянием на него распространенных в 20-е годы вульгарно-социологических теорий и т. д.
Отчасти это верно, но только отчасти. Существовал вместе с тем и еще ряд немаловажных обстоятельств, о которых мы не вправе забывать, стараясь подойти к оценке наследия этого мастера всесторонне и глубоко.
Прежде всего следует разграничить формы вертовского «нигилизма».
Иногда он просто высмеивал актерский фильм, не давая себе труда выдвинуть хоть сколько-нибудь серьезную аргументацию. Он объявлял старые фильмы «прокаженными», смеялся, издевался над ними, вкладывая в свои «манифесты» весь пыл молодости, всю свою ненависть к мещанству: «Не подходите близко! Не трогайте глазами! Опасно для жизни! Заразительно!..» В борьбе против художественной кинематографии он создает памфлет — саркастическую, злую картину «гибели искусства»:
«Мировой пожар «искусства» близок. Предчувствуя гибель, в панике бегут театральные работники, художники, литераторы, балетмейстеры и прочие канарейки. В поисках убежища они прибегают в кино. Киноателье— последний оплот искусства.
Сюда сбегутся рано или поздно длинноволосые знахари всех видов. Художественная кинематография получит колоссальные подкрепления, но не спасется, а погибнет вместе со всей душеспасительной ратью.
Вавилонская башня искусства будет взорвана нами» («О «Киноправде», 1924).
Чаще же выступления Вертова носили вполне серьезный, аргументированный характер.
Но что же все-таки имелось в виду под термином «художественная кинематография»?.. В ответе на этот вопрос — ключ к правильному пониманию эстетической позиции Вертова.
Вертов отрицал не вообще актерское кино, не вообще искусство. Он отрицал тот кинематограф, образцы которого в изобилии имел перед глазами: пошлую мещанскую мелодраму, слезливую психологическую драму, фальшивый, хотя внешне и динамичный, детектив — все то, что составляло продукцию коммерческого экрана. В 20-е годы у всех этих картин не было большего врага, чем Вертов. Он выступал против дурного вкуса, примитива, бездарного решения художественной формы, «литературности» и «театральности» фильмов. Он протестовал против монополии этой продукции, настойчиво требовал «потеснить» ее, дать место хронике.
И во всем этом он был, несомненно, прав.
Вертовские оценки кинорепертуара начала 20-х годов весьма точно совпадают с высказываниями на этот счет, содержавшимися в важнейших партийных документах. В резолюции XII съезда РКП (б), относящейся к апрелю 1923 года, в частности, указывалось: «За время новой экономической политики число кино и их пропускная способность возросли в огромной мере. Поскольку кино пользуется или старой русской картиной, или картинами западноевропейского производства, оно фактически превращается в проповедника буржуазного влияния или разложения трудящихся масс»¹ И далее съезд выдвигал неотложную задачу развития собственного кинематографического производства Советской России, задачу создания новой, подлинно революционной кинематографии.
____________
¹ «О партийной и советской печати». Сб. документов, М., 1954, стр. 275.
Вертов говорил, что кино призвано обновить «застоявшееся представление о мире», но что художественная драма (в том виде, во всяком случае, в каком она существовала в его время) подменяет решение этой задачи побочными, иллюстративными функциями. Поэтому он называет форму кинодрамы «консервативной», отмечает, что она, как правило, фальсифицирует жизнь, создает ее лживый, искаженный облик. Художественная драма должна занять в плане киносеанса то место, которое сейчас занимает хроника, требует он.
Противопоставляя слащавое мещанское кино суровым и трезвым образцам «киноглаза», Вертов пишет:
«Кинодрама щекочет нервы. Киноглаз помогает видеть.
Кинодрама заволакивает глаза и мозг сладким туманом. Киноглаз открывает глаза, проясняет зрение.
От кинодрамы щемит в горле. От киноглаза — свежий весенний ветер в лицо, простор полей и лесов, ширь жизни» («Художественная драма и «киноглаз», 1924).
Еще раньше, в сентябре 1923 года, набрасывая тезисы выступления на диспуте в АРК («О значении неигровой кинематографии»), Вертов замечает, что, хотя кинематограф изобретен сравнительно давно, кино в его настоящем виде не существует и подлинные задачи его не осознаны. Дело в том, пишет он, что кинематография вчерашнего и сегодняшнего дня — это только коммерческое дело. «Путь развития кинематографии диктовался только соображениями прибыли. И нет ничего удивительного в том, что широкая торговля картинами — иллюстрациями к романам, романсам, к пинкертоновским выпускам — ослепила глаза производственникам и втянула их в себя». Громадное большинство созданных до настоящего времени картин, говорит он далее, — это лишь «литературный скелет, обтянутый кинокожей», лишь мясо без костей, насаженное на осиновый кол, на гусиное перо литератора.
Итак, подлинного, общественно важного, глубоко осознавшего свое назначение и специфику искусства кино нет. А что же тогда есть?.. Есть «сожительство киноиллюстрации с театром, с литературой, с музыкой, с кем и с чем угодно, за сколько и когда угодно».
Объяснение позиции Вертова в отношении актерского кинематографа можно найти в его статье «Основное «киноглаза» (1925). В соответствии с эстетикой ЛЕФа, требовавшей от художника активного, прямого вмешательства в жизнь, он отодвигает художественную драму «на периферию сознания» и продолжает:
«И это вполне понятно. Раз мы в центре нашего внимания и нашей работы ставим непосредственно саму жизнь и раз мы все с вами понимаем под фиксацией жизни фиксацию исторического процесса, то позвольте нам, техникам и идеологам этой работы, в основу нашего наблюдения поставить экономическую структуру общества, не отгороженную от глаз зрителя благоуханной завесой из поцелуев и конструктивных или неконструктивных фокусов».
Вертов, конечно, заблуждался, сводя в отдельных высказываниях к «поцелуям» и «конструктивным фокусам» образную природу актерского кино, не веря в его возможность перешагнуть границы примитивной киноиллюстрации с пришпиленным в конце «красным бантом». Развитие революционного киноискусства опровергло это. И в конце 20-х годов, как свидетельствуют публикуемые в сборнике материалы, режиссер говорит уже не о «борьбе» документализма с игровым кино и не об «уничтожении» последнего, а о разграничении их методов, об установлении определенной пропорции между ними.
«Мы и сейчас считаем метод документального фильма основным методом пролетарской кинематографии, фиксацию документов нашего социалистического наступления, нашей пятилетки — основной задачей советского кино», — писал Вертов в апреле 1930 года в ответах на вопросы редакции газеты «Кинофронт». Но это отнюдь не означает, продолжает он далее, «что театр или примыкающее к нему игровое кино в какой бы то ни было мере освобождается от участия в боях за социализм. Наоборот, чем скорее игровое театральное кино переключится с фальсификации действительности, с бессильного подражания документальному фильму на откровенную стопроцентную игру, тем честнее и тем мощнее будут его выступления на социалистическом фронте».
Вертов ставит своей целью не только яснее увидеть с помощью «киноглаза» мир, но и организовать увиденное в образ. Возвращаясь к примеру с Большим театром, мы могли бы сказать, что, отдельно взятый, этот кадр — действительно странен. Он обретает полноценную художественную выразительность и философское содержание лишь в определенном сочетании с другими изображениями, в монтаже. Мало снять куски правды, говорит Вертов. Надо их еще так связать друг с другом, так «сорганизовать», смонтировать, чтобы и в целом получилась правда. И эта задача — не менее, а, пожалуй, еще более трудная, чем съемка отдельных правдивых кадров.
Монтажная теория документального фильма — одно из самых ценных творческих достижений Вертова.
Как и его общая теория, теория монтажа проходит определенную эволюцию. Главное содержание этой эволюции — обогащение монтажных принципов категорией идейности, постепенное, все более четкое выявление смысловой нагрузки сочетаемых кадров.
Первое упоминание о монтаже читатель встретит в манифесте «Мы». В соответствии с общим духом этого документа, выделяющего в качестве главного творческого принципа кино динамику, движение, Вертов подчеркивает, что «киночество» — это искусство организации необходимых движений вещей в пространстве, пишет о поисках «внутренних ритмов каждой вещи». Здесь же впервые встречается упоминание об интервалах (переходах от одного движения к другому, от кадра к кадру), которые приводят с помощью монтажа действие к его «кинетическому разрешению».
В те годы Вертов определяет кинохронику как «стремительный обзор расшифровываемых киноаппаратом зрительных событий», как куски «действительной энергии», «сведенные на интервалах в аккумуляторное целое великим мастерством монтажа». Он находит общую формулу документального фильма: «Мы определяем киновещь двумя словами: монтажное «вижу» («О значении неигровой кинематографии»).
Следовательно, в первые годы своей работы в кино Вертов понимает монтаж прежде всего как способ организации движения, видит в нем важнейший элемент специфики кино, но пока что специфики, касающейся лишь внешней структурной формы фильма.
В 1926 году в сборнике «На путях искусства» Вертов публикует большую статью «Киноглаз», содержащую раздел, специально посвященный монтажу. Он обобщает в нем то, что уже дала к этому времени практика «киноглазовского движения», что было выводом из съемки ряда документальных фильмов.
Режиссер начинает с того, что подчеркивает принципиальное различие между монтажом актерской и документальной картины. Оно состоит в том, что в первом случае производится склейка кадров по заранее написанному сценарию, а во втором — монтаж понимается как организация «видимого мира» — самой жизни.
Монтаж документального фильма начинается задолго до того, как кинематографист берет в руки куски отснятой пленки. Материалы «киноглаза» монтируются в течение всего времени производства — с момента выбора темы до выпуска фильма на экран. Вертов описывает шесть последовательных стадий этого процесса:
1) Монтаж во время наблюдения — ориентировка невооруженного глаза в любом месте, в любое время.
2) Монтаж после наблюдения — мысленная организация виденного по тем или иным характерным признакам.
3) Монтаж во время съемки — ориентировка «вооруженного» глаза кинока в месте, обследованном в пункте 1-м. Приспособление к несколько изменившимся условиям съемки.
4) Монтаж после съемки — грубая организация заснятого по основным признакам. Выявление недостающих монтажных кусков.
5) Глазомер (охота за монтажными кусками) — мгновенная ориентировка в любой житейской обстановке для уловления необходимых связывающих кадров. Исключительная внимательность. Военное правило: глазомер, быстрота, натиск.
6) Окончательный монтаж — выявление наряду с большими темами небольших, скрытых тем. Переорганизация всего материала Для выявления его наилучшей последовательности. Выявление стержня киновещи.
В середине 20-х годов монтаж, как и все другие выразительные средства, становится для Вертова способом выражения «социальной воли», «социального зрения» масс, проводником идейного замысла режиссера. Сочетая однородные кадры, он создает синтетические образные построения; противопоставляя их — контрастирующие монтажные эпизоды. Вертов ставит своей целью систематическое исследование вещей и процессов, преодоление в монтажном потоке кадров пространства и времени. Предугадывая будущие многоплановые композиции в кино, сближая экран с «космической поэтикой» Маяковского, он смело заявлял: «Освобожденный от обязательства 16—17 снимков в секунду, освобожденный от временных и пространственных рамок, я сопоставляю любые точки вселенной, где бы я их ни зафиксировал». Если для Л. Кулешова и даже раннего С. Эйзенштейна монтаж был методом изложения событий на экране, то Вертов видел в нем средство выявления обобщающего поэтического смысла фактов. И мы можем только удивляться прозорливости этого художника, сорок лет назад сказавшего первые слова о том, что в полной мере открывается нам только сегодня.
Вертов разрушил привычное единство места и времени хроникально-документального фильма, не дающее возможности показать эпоху во всем сложном переплетении ее движущих сил, идей, событий, конфликтов, человеческих судеб. Он сделал монтаж кинопублицистики широким, емким, позволяющим охватывать, сравнивать и объединять разделенные временем и расстоянием события, прослеживать развитие авторского замысла на разнообразном жизненном материале, сводить, разрозненные факты в группы, в содержательный комплекс явлений. Во многих его фильмах середины 20-х годов монтажная фраза нередко начинается в одном месте, в одно время — и заканчивается в другом месте, в другое время.
А ведь еще совсем недавно все это казалось не только дерзновенным, но и невозможным, абсурдным...
В более узком, профессиональном понимании монтажа как непосредственной работы с пленкой Вертов придавал особое значение упомянутой «теории интервалов». Подробно он пишет об этом в статье «От «киноглаза» к «радиоглазу» (1929).
«Школа «киноглаза» требует построения киновещи на «интервалах», то есть на междукадровом движении. На зрительном соотношении кадров друг с другом. На переходах от одного зрительного толчка к другому.
Междукадровый сдвиг (зрительный «интервал», зрительное соотношение кадров) есть («по «киноглазу») величина сложная. Она составляется из суммы разных соотношений, из которых главное:
1) соотношение планов (крупн., мелк. и т. п.);
2) соотношение ракурсов;
3) соотношение внутрикадровых движений;
4) соотношение светотеней;
5) соотношение съемочных скоростей».
Учитывая все это, режиссер устанавливает порядок смены кадров и кусков друг за другом, определяет время демонстрации («критическое время») каждого кадра и монтажного куска. При этом принимается во внимание не только смысловое, но и зрительное, «оптическое» отношение каждого отдельного кадра к целому, к остальным участникам начавшегося «монтажного сражения»:
«Найти наиболее целесообразный «маршрут» для глаз зрителей среди всех этих взаимодействий, взаимопритяжений, взаимоотталкивания кадров, привести все это множество «интервалов» (междукадровых движений) к простому зрительному уравнению, к зрительной формуле, наилучшим образом выражающей основную тему киновещи, — вот труднейшая и главнейшая задача автора-монтажера».
Вертов не только создал (и практически воплотил в фильмах) стройную монтажную теорию немой документальной картины. Им разработаны также и основные принципы звуко-зрительного монтажа, причем режиссер писал о звуке как о важном элементе художественной структуры произведения задолго до его практического внедрения в кино.
Первое упоминание о задаче организации не только видимой, но и слышимой жизни встречается в его работе «Киноки. Переворот», относящейся, как мы помним, к 1923 году. Вертов пишет:
«Еще раз условимся: глаз и ухо. Ухо не подсматривает, глаз не подслушивает.
Разделение функций.
Радиоухо — монтажное «слышу»!
Киноглаз — монтажное «вижу»!
Спустя два года в статье «Киноправда» и «Радиоправда» (1925) Вертов писал:
«Мы выдвигаем агитацию фактами не только в области зрения, но и в области слуха.
Как установить слуховую связь по всей линии мирового пролетарского фронта?
Если по отношению к зрению у нас кинонаблюдатели фиксировали киноаппаратами видимые жизненные явления, то здесь придется уже говорить о записи слышимых фактов.
Мы знаем записывающий прибор — граммофон. Но есть и другие, более совершенные записывающие приборы; они записывают каждый шорох, каждый шепот, шум водопада, речь оратора и т. д.
Демонстрация этой слуховой записи после ее организации — монтажа может легко передаваться по радио в виде «Радиоправды».
Попытки монтажа с учетом «звучания» немых кадров были предприняты Вертовым в фильмах «Шестая часть мира», «Одиннадцатый», «Человек с киноаппаратом». Режиссер создавал оригинальные контрапунктические конструкции изобразительного ряда, строил повествование на изобретательных монтажных повторах, метафорах, ассоциациях и т. д.
Нам важно подчеркнуть, что все это диктовалось не только игрой творческого воображения документалиста. В большей степени это была вполне сознательная, продуманная цепь его экспериментов. Художественные поиски и теоретические изыскания в его творчестве неразделимы. Одно вытекает из другого; одно тесными нитями связано с другим.
Вот как, например, сам Вертов описывает поиски «звуковых эффектов» в фильме «Одиннадцатый»:
«В немой картине «Одиннадцатый» мы уже видим монтаж, связанный со звуками. Вспомните, как стучат машины, как дается абсолютная тишина. Вначале — стук топоров, молотков, визг пил, потом все это прекращается, уступает мертвой тишине, и в этой тишине стучит сердце машины. Надписи вставлены в эти куски только для подсказки, чтобы было правильное восприятие. Вы помните также, как показывается двухтысячелетняя скала и скелет скифа. Вода совершенно не колышется, вокруг пустынная местность, а затем «звук» начинает возрастать, начинается стук молотков, все больше, больше, затем удары большого молота, и, наконец, когда человек вырастает и стучит по скале, дается мощное «слуховое эхо...»
Нетрудно заметить родственность этой сцены и финального эпизода «Броненосца «Потемкин» С. Эйзенштейна, показывающего проход мятежного корабля сквозь строй царской эскадры. Как и в фильмах Вертова, он также строится на паузах, «тишине» (панорама по напряженным лицам матросов), на эффектах «стука моторов» (кадры машинного отделения).
Но все это были опыты с имитацией звучаний, проводившиеся в рамках немого кино. Впервые подлинные звуки жизни зрители услышали в фильме Вертова «Симфония Донбасса» («Энтузиазм») — одном из первых новаторских произведений советского звукового кино.
Широко известна «Заявка» режиссеров С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и Г. Александрова (1928). В этом документе, вошедшем во все учебники кино, содержалась начальная теоретическая разработка основ будущего звуко-зрительного монтажа, причем предлагалось главным образом его одностороннее — контрапунктическое использование.
И совсем неизвестен документ тех же лет не меньшего теоретического значения, принадлежащий перу Дзиги Вертова. В свое время он не был даже опубликован. А между тем он содержит точное научное предвидение принципиальных вариантов художественного построения звуко-зрительного образа в фильме.
В апреле 1930 года, подготавливая ответы на вопросы редакции газеты «Кинофронт» (выше мы уже упоминали об этой важной впервые публикуемой здесь статье), Вертов писал:
«Декларации о необходимости несовпадения видимых моментов со слышимыми, так же как и декларации о необходимости только шумовых фильмов, так же как и декларации о необходимости только разговорных фильмов, — все это не стоит, как говорится, выеденного яйца. В звуковом кино, так же как и в немом, мы разделяем резкой границей только два вида фильмов: документальные (с подлинными разговорами, шумами и т. д.) и игровые (с искусственно, специально приготовленными для съемки разговорами, шумами и т. д.).
Ни для документальных, ни для игровых фильмов вовсе не обязательны ни совпадение, ни несовпадение видимого со слышимым. Звуковые кадры, так же как и немые кадры, монтируются на равных основаниях, могут монтажно совпадать, могут монтажно не совпадать и переплетаться друг с другом в разных необходимых сочетаниях».
Кстати говоря, контрапунктическое построение звуко-зрительного образа, о котором писали авторы «Заявки», впервые встречается в советском кино не в актерском, а именно в документальном фильме — в той же «Симфонии Донбасса» Дзиги Вертова. Этот фильм был первым произведением мировой кинематографии, в котором запись разнообразных звучаний, шумов, человеческой речи производилась на натуре, чисто документальным способом и дала исключительно удачные по тому времени результаты. Контрапункт звука и изображения Вертов применяет в двух случаях. На кадрах труда, озвученных индустриальными шумами, он неожиданно вводит звучания, как бы опережающие описываемую картину, предугадывающие победу рабочих: шум праздничной демонстрации, крики «ура», приветствия... И, наоборот, в последующем изобразительном показе торжественного шествия металлургов Донбасса в фонограмме вдруг начинают «прослушиваться» звуки труда, напоминая зрителю о том, что предшествовало празднику.
Записывая звук для этого фильма, съемочная группа Вертова не только впервые в практике мирового кино вышла с аппаратурой на улицу, проникла в цехи индустриального предприятия, спустилась в шахты, но и заставила «ходить», «бегать» и киноаппарат и микрофон. Вся работа по этой картине была талантливым экспериментом, пророческим предвидением будущих могущественных возможностей телевизионного репортажа и снимаемой портативной аппаратурой современной «киноправды».
Важной вехой на пути дальнейшего развития принципов звуко-зрительного монтажа явилась для Вертова работа над фильмом «Три песни о Ленине». Сложная симфоническая партитура этого произведения, многообразная, яркая по богатству художественных оттенков, настроений, тончайшей смены эмоций, дала возможность режиссеру извлечь из опыта ее создания ряд существенных теоретических выводов. Творческий метод Вертова к тому времени неизмеримо вырос; его мастерство достигло художественного совершенства. «Если бы это зависело от меня, я писал бы подобные фильмы не словами, а сразу изображениями и звуками. Подобно тому как художник пишет картину не словами, а сразу карандашом или красками. Подобно тому, как композитор пишет сонату не словами, а сразу нотами или звуками», — говорил он в те годы.
Подлинная «кинопись» должна быть понятна без перевода на язык слов — вот главное творческое кредо мастера. В статье, которая так и называется «Без слов» (1934), Дзига Вертов, разъясняя особенности художественной структуры «Трех песен о Ленине», пишет о том, что изложение в этом фильме идет «не по каналу слов, а другими путями, по линии взаимодействия звука и изображения, по равнодействующей многих каналов, идет глубинными путями, иногда выбрасывая на поверхность десяток слов. Движение мыслей, движение идей идет по многим проводам, но в одном направлении, к одной цели». И далее: «Содержание «Трех песен» разворачивается спирально, то в звуке, то в изображении, то в голосе, то в надписи, то без участия музыки и слов, одними выражениями лиц, то внутрикадровым движением, то столкновением одной группы снимков с другой группой, то ройным шагом, то толчками от темного к светлому, от усталого к бодрому, то шумом, то немой песней, песней без слов, бегущими мыслями от экрана к зрителю без того, чтобы зритель-слушатель переводил мысль в слова».
Монтаж документального фильма проходит через ряд этапов, извлекая художественные связи из фактов, но не навязывая их последним. Этот путь особенно труден, подчеркивает Вертов. При этом речь идет не о грубом механическом перемещении кадров. «Речь идет о том, чтобы развернуть все богатство этого движения, исходя не из сочиненных абстракций, а из конкретных фактов. Речь идет об объединении всех получаемых на данную тему фактов в одно гармоническое целое».
Так на протяжении всего лишь одного десятилетия теоретическая мысль Вертова, непрерывно совершенствуясь, от ограниченного представления о монтаже как об искусстве передачи движения приходит к монтажу как важнейшему средству создания гармоничного, единого, целостного во всех своих идеологических и художественных компонентах фильма.
В зрелый период творчества Вертов выработал индивидуальную манеру монтажа, при которой фильм «складывается» не по отдельным эпизодам, а весь сразу, целиком, выстраиваясь перед взглядом режиссера во всей сложности своей художественной структуры. Вертов вводит во взаимодействие все находящиеся в его распоряжении монтажные куски. «Все кадры находятся в состоянии непрерывного перемещения вплоть до окончания монтажного процесса». «Строительные леса» с фильма при таком методе сбрасываются лишь в самый последний момент.
Исторический процесс постепенного усложнения монтажа документальной картины Вертов характеризует как закономерное явление общекультурного роста. Оно представляет собой, по его словам, отражение общего развития кино, начиная от примитивного «Патэ-журнала» и кончая сложными формами современного кинематографического мышления. «Это — вовсе не формализм, — пишет Вертов. — Это — совсем другое. Это — законное развитие, которого избежать нельзя и не следует. Здесь само содержание не допускает более примитивной организации материала. Было бы несправедливо и неправильно искать в данном изложении (речь идет о вертовском фильме «Клятва молодых». —С. Д.) форму ради формы. Мозг человека несравненно сложнее мозга бабочки» (дневник, 1944).
Дзига Вертов не терпит наспех сделанного, примитивно озвученного фильма, превращающего зрителя в слушателя. Он называет такие картины «скоросшивателями». Режиссер с иронией, с отвращением пишет о фильмах, возникающих как творчески беспомощная спекуляция на материале, на теме. Документальный фильм — произведение синтетическое, говорит он. Все его компоненты, все линии, все части должны быть тщательно «пригнаны» друг к другу, гармонично слиться в художественное целое.
И особенно важно это требование по отношению к изображению и звуку. «Всем понятно, что радиофильм надо слушать, что немой кинофильм надо смотреть. Но не всем понятно, что звуко-зрительный фильм — это не механическое соединение радиофильма с немым фильмом, а такое сочетание одного с другим, которое исключает самостоятельное существование изобразительной и звуковой линии. Рождается третье произведение, которого нет ни в звуке, ни в изображении, которое существует только в непрерывном взаимодействии фонограммы и изображения» (дневник, 1942).
Вся вторая половина жизни художника, начиная с середины 30-х годов, сложилась трудно. Вертова обвиняли в поисках нарочито усложненного киноязыка, в формализме. Подобным нападкам подвергались, в частности, и его монтажные методы.
Это не были творческие споры 20-х годов — ожесточенные, но никогда не переходившие в административные репрессии. Это было уже другое время, — время, когда стало распространенным администрирование в творческом процессе.
Режиссер тяжело переживал обрушившиеся на него необъективные упреки. В последние десятилетия жизни он несколько раз возвращается в дневнике к трудным обстоятельствам своей творческой биографии, пытается наедине с собой понять приписываемые ему обвинения, объясниться.
В дневнике за 1942 год Вертов пишет, что в его вкусе якобы «лягушка к обеду» — несомненное доказательство формалистически изощренной кухни, — но что в действительности он предпочитает «простую, здоровую пищу, реальную, конкретную, ясную тему, драматургическое решение которой не выдумывается, а пишется самой жизнью». Вертов с горечью замечает, что не искал и не ищет «изобретений формальных». «Наоборот. Ищу такой темы и такой съемочной обстановки, где был бы максимально избавлен от сложных приемов, от вынужденных решений, от замысловатостей». При наличии лестницы, подчеркивает он, спускаться из окна по водосточной трубе будет неоправданным трюком. Другое дело, если лестницы нет — тогда этот способ будет вынужденным. «Всегда предпочту лестницу».
Еще в 1935 году, размышляя над итогами сложной и длительной работы (в частности, монтажной работы) по фильму «Три песни о Ленине», Вертов писал: «Много сотен, а может быть, тысячи страниц белой бумаги исписаны моей рукой в процессе съемки и монтажа фильма. И все это только для того, чтобы уничтожить написанное в момент, когда приходит такое ясное и простое, как улыбка бетонщицы Белик, решение» («Последний опыт»).
Это была «сложная простота» творческой лаборатории художника: сложная из-за того, что она достигалась напряженными поисками формы; простая потому, что в конце концов форма вертовского фильма становилась доступной каждому просвещенному сознанию.
И вот эту-то «сложную простоту», эти поиски наилучшего способа художественного выражения, поиски совершенного киноязыка противники документалиста стремились выдать за трюкачество и формализм...
В дневнике за 1943 год Вертов записал:
«Многие не понимают, что мой сложный путь ведет в конечном итоге к величайшей простоте, к такой же сложной простоте, как улыбка или биение пульса ребенка. Включил рубильник — и город заливается светом. Включил рубильник — и пошли электропоезда. Сложное становится простым. Однако к первой электрической лампочке пришли путем сложным.
Киноправда — это еще более сложная задача...»
Язык образов, ассоциаций, метафор, емких и лаконичных обобщений шел в середине 20-х годов на смену примитивному «логическому мышлению» традиционного кинематографа. Это был способ выражения нового, рождающегося искусства, в значительной степени общий для актерского и документального кино. Им широко пользовались и Д. Вертов, и С. Эйзенштейн, и А. Довженко.
Кинематограф обрел новое чувство времени, новые способы организации пространства. Привычное единство времени и места действия было разрушено. На смену ему пришли вольное поэтическое повествование, неожиданные монтажные сопоставления, кадры-ассоциации, кадры-символы. Фильм периода расцвета немого кино в своих лучших образцах отверг зрителя-обывателя, пассивного созерцателя киноэкрана. Он стал предполагать зрителя думающего, обостренно чувствующего, творящего в своем воображении вместе с художником.
Ассоциативные монтажные столкновения кадров в «Стачке», подсказывающие зрителям острые политические оценки происходящего; «оживающие» гневные каменные львы в «Броненосце «Потемкин»; украинский дид, вылавливающий в «Звенигоре» «венок-судьбу», брошенный девушками много веков назад в реку; рабочий киевского арсенала, стоящий невредимым под пулями гайдамаков; сложные двойные и тройные экспозиции «Одиннадцатого»; монтажные фразы, уничтожающие пространство, сближающие века, — все это были явления одного порядка, одного стиля, одного образного языка. Во многих произведениях нового кинематографа место «логической соединимости» кадров заняла эмоциональная достоверность монтажа. Кадры и эпизоды становились звеньями в цепи рассуждений автора картины, «опорными точками» развития его поэтического замысла. Как никогда раньше, в кинематографе на первый план вышли авторское «я» художника, особенности его индивидуальной творческой манеры, своеобразие его таланта.
В советское документальное кино очень многое из всего этого было внесено Дзигой Вертовым. Вертов был отцом поэтического документального фильма, сразу же продвинувшего хронику жизни на высокую ступень искусства. И, может быть, еще значительнее окажется в наших глазах его творческий подвиг, если мы вспомним, что он потребовал в своем осуществлении не только титанической работы, но еще и длительной, упорной борьбы.
Документальное кино способно создавать обобщающие поэтические образы. Нам эта истина кажется бесспорной. Но сорок лет назад ее еще требовалось доказать.
Внимательный читатель прочтет обо всем этом в тексте книги. Он почувствует и поймет, какое мужество надо было иметь, чтобы преодолеть все эти «горы предубеждений». Мы же коснемся этой стороны дела лишь в связи с одной, на первый взгляд как будто бы и второстепенной, однако весьма и весьма далеко идущей проблемой — проблемой достоверности киноизображения. Именно по этой линии, создавая поэтический фильм, Вертову и нужно было решительным образом изменить привычное представление об эстетических признаках (и самом определении) документально снятого кадра.
Затрагивая эти темы, мы пользуемся, само собой разумеется, современной терминологией: в те годы предмет завязавшейся дискуссии формулировался иначе. Но, по существу, в применении к документальному кино спор уже тогда шел о том, какова приемлемая мера вмешательства авторского «я» в документальный материал, допустима ли — и в какой степени — его художественная трактовка, при каких условиях кадр утрачивает в монтаже «вещественность» — конкретное общественно-историческое содержание. Иными словами, дискутировалась основополагающая эстетическая проблема типизации: возможность, средства и пути создания художественного образа в документальном фильме.
Все эти вопросы были естественно и неизбежно поставлены самой жизнью. С решением их прояснялось основное содержание исторического процесса перехода информационной хроники в новый вид киноискусства — образную публицистику, намечались пути создания обобщающих, захватывающих глубинные пласты действительности произведений.
Мнения здесь разделились. И хотя в конечном счете очевидная для нас теперь истина была открыта, постижение ее проходило в столкновении самых крайних взглядов.
Убежденным противником расширительного истолкования документального кадра выступил в тот период сценарист и литературовед В. Шкловский.
Шкловский утверждал, что хроникально-документальное кино должно давать факт, точно обозначенный, «подписанный». В статье «Куда шагает Дзига Вертов?» он писал: «Хроника нуждается в подписи, в датировке... Дзига Вертов режет хронику. Работа его в этом отношении не прогрессивна художественно... Я хочу знать номер того паровоза, который лежит на боку в картине Вертова...»¹. Упрекая Вертова в нарушении «законов хроники», Шкловский говорил, что в фильме «Шестая часть мира» исчезла «фактичность кадра», что кадры в этом произведении оказались «географически незакрепленными и обессиленными». «Вещь потеряла свою вещественность и стала сквозить, как произведение символистов»².
____________
¹ «Советский экран», 1926, № 32.
² В. Шкловский, Их настоящее, М., 1927.
Против «субъективности» (то есть авторской художественной трактовки) факта в документальном фильме активно (хоть и не весьма аргументированно) выступал в конце 20-х годов и режиссер Л. Кулешов. В статье «Экран сегодня» он писал: «До сих пор в наших хрониках преобладал субъективно-художественный монтаж. Хроника монтировалась экспрессионистически. Монтаж не обслуживал материал с целью возможно лучшей его подачи, а был индивидуально творческим моментом монтажера». Отсюда, по его мнению, шла «монтажная пестрота» фильма, возникали эффекты «чисто ритмического порядка» с ослабленным смысловым значением.
Кулешов отрицал монтаж как эстетический прием для выражения мыслей художника-публициста. Как и Шкловский, он называл эту функцию «противоречащей» природе документального фильма. Монтаж в документальном кино, говорил он, — лишь «выразитель и организатор» материала, выявляющий его «тематическую сущность». «Оценки» допустимы только в игровом фильме. Что же касается неигрового, то он не должен «демонстрировать субъективное впечатление художника от событий, как бы правильны ни были его, художника, убеждения». И далее: «Хроника должна верно демонстрировать события, и формы монтажа хроники определяются не автором, а материалом»¹.
____________
¹ «Новый Леф», 1927, № 4.
Противоположного мнения придерживался известный критик того времени В. Перцов.
Справедливо отмечая, что изложенная выше теория искусственно ограничивала, сужала возможности документализма, толкала его на путь протокольной фиксации жизни, Перцов поддерживал и защищал поэтические методы Вертова. Он доказывал, что документальный, конкретно-исторический смысл кадров не уничтожается монтажом, а взаимодействует с ним, ибо «куски вне монтажа — это фотография». Задачи монтажа ни в коем случае не сводятся к последовательной склейке кадров. Они гораздо шире, значительнее, так как «не может быть монтажа, который не ставил бы своей целью воздействовать на зрителя в определенном направлении с таким расчетом, чтобы через определенную последовательность кусков и их смену во времени раскрыть нечто не содержащееся в этих кусках, взятых порознь».
В статьях Перцова конца 20-х годов появляется близкое вертовскому (и нашему современному) понимание проблемы достоверности киноэкрана. Он истолковывает ее не как натуралистическую, протокольную «правду», а как правду художественного обобщения, сопоставлений и ассоциаций, правду типизации жизни, правду чувства. Анализируя картины Вертова, критик указывает, что объективная достоверность того или другого кадра, выявленная и подчеркнутая в драматургии, в монтаже, воспринимающаяся в общем контексте произведения, может не совпадать с той частной, конкретной достоверностью, в условиях которой данный кадр был снят. «Монтировать факты — это значит их анализировать и синтезировать, а не каталогизировать»¹.
____________
¹ В. Перцов, «Игра» и демонстрация. — «Новый Леф», 1927, № 11—12.
Таким образом, главным предметом полемики по проблеме достоверности — скрытым или явным — были все те же новаторские фильмы Вертова, все те же теоретические выводы, которые смело и определенно делал из них художник.
Как творчески, так и в обобщающих теоретических статьях Вертов не противопоставлял «тематическую сущность», документальную достоверность — и расширительное авторское истолкование, образность кинематографического кадра. Но в то же время он никогда не был сторонником узкого, догматического понимания этой проблемы, сводящего достоверность хроники к желанию знать номер промелькнувшего где-то в фильме паровоза. Полемизируя с подобной постановкой вопроса, Вертов писал, что каждый жизненный факт, зафиксированный аппаратом, «является кинодокументом даже в том случае, если на него не надеты номерок и ошейник» (дневник, 1927).
Вертовский метод поэтического кино родился из широкого, не связанного никакими условностями понимания достоверности документально снятого кадра. Иначе и не могло быть. Образный поэтический фильм не терпел «кинопротокола» — подчеркнутой конкретизации (а тем более каталогизации) изображения. Наоборот, он требовал известной обобщенности кадров, наличия в них некоторых сходных признаков художественной трактовки, которые позволили бы им «существовать» рядом друг с другом, органично входить в ту или иную монтажную фразу, сочетаться не только по смыслу, но и по единству стилистической манеры.
И опять-таки лучше всего сказал обо всем этом сам Вертов:
«Неверно утверждение, что зафиксированный киноаппаратом жизненный факт теряет право называться фактом, если на пленке не проставлены название, число, место и номер.
Каждый заснятый без инсценировки жизненный миг, каждый отдельный кадр, снятый в жизни так, как он есть, скрытой съемкой, съемкой врасплох или другим аналогичным техническим способом, является зафиксированным на пленку фактом, кинофактом, как мы его называем.
Пробегающая по улице собака — это видимый факт даже в том случае, если мы ее не нагоним и не прочтем, что у нее написано на ошейнике.
Эскимос остается на экране эскимосом и в том случае, если на нем не написано, что он «Нанук» («По-разному об одном», 1926).
Совершенно нелепо, продолжает далее режиссер, добиваться того, чтобы отдельный кадр, как правило, отвечал бы на целую анкету вопросов: где, когда, почему и т. д.
Все это может понадобиться в фильмотеке для хранения кинодокументов, это нужно знать при монтаже режиссеру — но никак не зрителю. Документалист не обязан давать ему «информационное приложение» к тому, о чем он рассказывает с экрана. Это убило бы всякое эмоциональное воздействие киноизображения. Подобные сведения нужны лишь как справочник для прокладывания верного «монтажного маршрута».
Вертов утверждал — и блистательно показал в своих фильмах, — что художник — не раб, а соперник природы, что он создает в своих произведениях (и в том числе в документальных картинах) отнюдь не копию, а философское, поэтическое изображение мира. Он не видел противоречия между единичностью зафиксированного на пленке жизненного факта и его обобщенным художественным истолкованием. Он смело монтировал, сопоставлял и противопоставлял кинодокументы, разделенные временем и пространством, и в этом монтаже кадр не терял своих общественно-исторических, географических и иных признаков. Он особое внимание уделял тому свойству монтажа, благодаря которому сцена, составленная из мозаики кадров, контрастных или однородных, обретала новое, обогащенное поэзией содержание.
Поэтический фильм-обозрение, в жанре которого сняты основные картины Вертова, не стал для кинорежиссера застывшей формой. Он непрерывно совершенствует свой метод, ищет новые художественные решения. Свидетельством этого явились, в частности, его фильмы «Одиннадцатый» и «Человек с киноаппаратом».
В начале 30-х годов документалист делает еще одно открытие, оказавшееся подлинной революцией для звукового кино. В 1930 году в фильме «Симфония Донбасса» наряду с индустриальными шумами он записывает несколько синхронных реплик рабочих, а три года спустя снимает первое в мире звуковое киноинтервью с одной из героинь Днепрогэса — бетонщицей Белик.
На первый взгляд может показаться, что подобные сцены являлись не органичным развитием «изобразительно-монтажного» поэтического фильма, а напротив — выражением его кризиса. Такая точка зрения не раз высказывалась советскими и зарубежными кинокритиками. Сторонники ее указывали на то, что синхронная запись речи нарушала ритм, стройность произведения, переводила обобщающее рассмотрение жизни в совершенно иную эстетическую концепцию, создавала как бы «паузу» в развитии киноповествования.
Сам Вертов не считал этого. Наоборот, он отмечал художественное единство, преемственность звуковых интервью и кадров, добытых «киноглазом» в немых картинах, подчеркивал, что синтетические образы в его фильмах также были образами «живого человека» — с той лишь разницей, что «роли» их создателей как бы распределялись между несколькими людьми.
В статье «Хочу поделиться опытом» (1934), говоря о том, что одной из основных задач «киноглаза» было «научиться читать мысли людей», выявлять их чувства, ловить мгновения предельной искренности, Вертов пишет: «В этом отношении «Три песни о Ленине» дают такие образцы «неигры», как выступление ударницы Днепростроя, как колхозницу с орденом и других людей. Эти кадры живых людей перекликаются в нашей памяти с женой задохшегося сторожа из фильма «Жизнь врасплох», с детьми из «Человека с киноаппаратом», с молящимися из «Энтузиазма» и т. д.».
И действительно, открытие звукового киноинтервью не было для Вертова случайным, а тем более «кризисным». Оно непосредственно продолжало поиски режиссера в области специфических особенностей кинематографа, дополняло, компенсировало известную ограниченность поэтического фильма-обозрения в его возможностях отобразить внутренний мир человека. Звучащее слово, интонация, с которой его произносит герой, мимика, которой он сопровождает свою речь, — все это стало в руках Вертова еще одним художественным средством в его борьбе за правду на экране, за киноправду. Оно не было навязано ему извне, не было попыткой сломать привычную форму образного мышления, предпринятой в предвидении ее «близящегося краха». Отнюдь нет... Синхронная съемка человека, живое выступление героя, киноинтервью, как по методам, которыми пользовался при этом Вертов, так и по результатам воздействия такого рода сцен на зрителей естественно вытекали из природы образной публицистики, из эволюции кино. Они явились удачно найденной формой конкретизации романтического рассказа о жизни, который вел в поэтических обобщениях режиссер.
Вполне возможно, что, снимая первые интервью, Вертов делал это в значительной мере инстинктивно, лишь творческой интуицией чувствуя недостаточность привычных средств для решения усложнившихся художественных задач. Синхронная запись речи, переключающая внимание зрителя с обобщенных синтетических образов на индивидуальный характер, судьбу отдельного человека, встречается в его фильмах середины 30-х годов лишь в виде исключения. Режиссер вводил ее как выделенную крупным планом деталь, как убедительную подробность, частность, подтверждающую идею общего. Так было в его фильмах «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине», «Колыбельная».
Но в те же годы он задумывает ряд новаторских фильмов-очерков о живых людях, мечтает воплотить на экране «галерею портретов» его современников.
В годы войны, обосновывая свои планы, кинорежиссер пишет, что никакие «правила» в искусстве не остаются неизменными и представление о документальной кинематографии не стоит на месте. Его заявки на темы о «живом человеке», на кинопортреты нарушают не документальность, а «стандартное представление о документальности». Фильм-портрет, писал Вертов, даст возможность ограничить место и удлинить время, необходимое «для более глубокого показа многого в немногом».
Ни одному из этих замыслов не суждено было осуществиться: в те годы Вертов был уже лишен возможности творить в излюбленной, хорошо знакомой ему области. Кинематографическое руководство «доверяло» ему лишь редкие и совершенно чуждые его творческому темпераменту фильмы.
И потому с горечью, с болью читаешь теперь строки в его дневнике, где он пишет о том, что большая, неоправданная ложь таится в рассматривании его «сквозь очки времен «Человека с киноаппаратом», что если художник делал раньше большие поэтические обобщения, это не значит, будто остальные линии его развития должны быть пресечены. И так понятны его волнение, его обида, когда он узнает, например, что фильм о герое Отечественной войны Покрышкине, снять который он мечтал, поручили не ему, а другому документалисту.
«Выходит, что Вертов двадцать лет добивался права сделать документальный фильм о «живом человеке» и наконец добился — но не для себя, а для другого режиссера, который никогда и не думал об этом. В момент победного финиша подменили победителя. Человек со стороны открыл рот и скушал долгожданную тему. Не мужу, а гостю предоставлено право первой брачной ночи...» (дневник, 1944).
Так чем же все-таки объяснялись эти невзгоды в творческой жизни Вертова? Какие причины привели к тому, что еще сравнительно молодой, полный сил художник всю вторую половину своей жизни фактически молчал?..
Терзаемый сомнениями, подобные вопросы нередко задавал себе и сам Вертов.
«Тебя не любят!» — сказал ему как-то в минуту откровенности один из руководящих деятелей кинематографии.
«Кто же это меня не любит?» — раздумывая над этой фразой, пишет в своем дневнике режиссер.
«Партия и правительство? Нет. Партия и правительство удостоили меня высокой награды.
Пресса? Нет. Пресса, начиная от «Правды» и кончая газетами за Полярным кругом, удостоила меня высочайших отзывов.
Общественность? Нет. Общественность в лице ее лучших представителей — крупнейших писателей, рабочих коллективов, художников и т. д. — подняла на щит мою киноработу.
Кто же меня не любит?..»
Художник не нашел ответа на этот вопрос.
Но нашлись люди, его товарищи по профессии и некоторые критики его работ, которые решили эту проблему удивительно просто.
Вертов сам виноват во всем, сказали они. Никто ему ничего плохого не делал. Начиная со второй половины 30-х годов он обессилел, зашел в тупик. Он творчески оскудел...
Нет, творческая энергия Дзиги Вертова не иссякала до последних мгновений его жизни. Неопровержимые доказательства этого — его интереснейшие заявки и планы, сохранившиеся в его архиве и частично опубликованные в этом и других изданиях, его авторские режиссерские разработки фильмов (например, первоначальный вариант либретто картины «Тебе, фронт!», как небо от земли отличающийся от того, что было потом на экране), его замечательные дневники, с которыми по прошествии многих лет смогут наконец познакомиться широкие круги читателей. И мы уверены: никто из них, прочитав все это, не сможет поддержать версию о творческой неполноценности режиссера.
Вопрос, таким образом, снова остается без ответа.
Но ответ есть. И в общем его, конечно, можно найти в тексте книги самого Вертова. Художник в данном случае абсолютно объективен.
Внимательно вчитываясь в его дневники, мы видим, как постепенно все туже сжималось вокруг него кольцо административного нажима. Объявленный еще рапповцами «формалистом», обвиненный в «групповщине», «изоляции от общественности», Вертов все с большим и большим трудом пробивал себе дорогу к творческой работе. Менялись руководители киноорганизаций. Но суть сложившегося положения оставалась прежней.
Удивительнее всего было то, что многие киноработники, с которыми приходилось иметь дело Вертову, действительно искренне не понимали его. Они не понимали, куда и зачем рвется себе во вред его мятежная душа. Не понимали — и, пожимая плечами, клали «под сукно» его заявки, отклоняли его проекты творческой лаборатории, бесцеремонно вмешивались в его работу, месяцами не выпускали на экран снятые им фильмы.
А художник в это время боролся с отчаянием, с безнадежностью, с болью в душе. В изменившихся условиях жизни он чувствовал себя беспомощным.
«Документальный фильм пользовался уважением, пока не был взят курс на количество без учета качества, — писал он. — Халтурщики, подражатели, бездарные плагиаторы, ловкачи опозорили марку документального фильма... Творческому изобретательству нет места. Оперативность хорошая, но во всем повторение пройденного. Ни шагу вперед. Борьба за качество не поощряется. Штурмовщина вместо организации производственного процесса».
И снова ряд волнующих, затрагивающих самые больные места, самую суть творческой жизни вопросов:
«Как бороться с бюрократическими ответами, с указаниями, которые являются не решениями, а отсрочками решения? С бесконечным «завтра»? Запретить или разрешить — то и другое понятно. А как быть с «не запрещать, но и не разрешать», с консервацией, с маринадом, с затягиванием и медлительностью до бесконечности?..»
Но ведь творческие замыслы — не консервы, продолжает Вертов. Они либо развиваются, либо умирают. Они не могут сохраняться длительное время без ущерба для них самих и того, кто способен реализовать их. «Творческий замысел останется замыслом и не больше, если мы не будем иметь условий, в которых этот замысел может быть осуществлен». В противном случае он будет или разрушен, или замаринован на долгие годы, на всю жизнь.
Вертов видел путь, ведущий к созданию подлинно творческой атмосферы в документальном кино.
«Нужно организовать победу, а не ждать, что она придет самотеком как результат каких-то чудес, — убежденно говорил он. — При наших требованиях к бескомпромиссной реализации творческого замысла; при нашей ненависти к фальши и правдоподобию, которыми пытаются халтурщики и дельцы заменить многокрасочную правду; при нашем стремлении дать образы, выношенные народным творчеством, а не скороспелые иллюстрации к лозунгам и надписям; при нашем отвращении к штампам — нам нельзя соглашаться на условия, парализующие всякое отклонение от универсальной и обезличенной рецептуры, выдуманной в кабинете без поправки на исключение».
И далее:
«Единственный путь к реализации нестандартного творческого замысла — в организации нестандартных условий и нестандартных требований к сценарному, съемочному, монтажному, ко всему творческому и организационно-техническому процессу».
Нужно изменить сложившуюся практику производства хроникально-документальных фильмов, писал Вертов, необходимо создать творческую лабораторию, которая откроет дорогу эксперименту и поможет сохранять и выращивать кадры, а главное — перейти «от системы непрерывных согласований к системе непрерывных действий».
Вертов никогда не противопоставлял себя и возглавляемую им группу «киноков» (существовавшую до начала 30-х годов) остальному отряду советских документалистов. Он знал среди своих товарищей по труду многих талантливых и честных людей и с уважением, с гордостью писал о них. Он верил в творческую силу революционной кинопублицистики, был убежден в конечной победе киноправды.
Но он никогда и ни за какие блага не мог примириться с теми, кто противодействовал творческой жизни искусства.
«Кадры есть. Замечательные кадры. Но они не используются...
За короткое время после возвращения в хронику я успел убедиться, что большинство работников трудится здесь самоотверженно. Тем более необходимо всю их энергию направить в творческую сторону.
Я думаю, что большинство нашего актива — за принципиальный путь к художественной правде, а не за беспринципное ремесленничество.
За расцвет всех видов хроникального фильма, а не за прокрустово ложе одного вида: сводки кинотелеграмм и последних известий.
Не только журнал, но и очерки, и поэмы, и песни, и такие отдельные произведения, о которых будет говорить весь мир...
Мы за победу творческого изобретательства над деляческим переизданием пройденного.
Мы за постоянную готовность к бою...» (дневник, 1934).
Вертов настойчиво, упорно писал и говорил о том, что надо приложить все усилия, чтобы объяснить руководителям кинофабрик, что хорош не тот автор и не тот режиссер, который безоговорочно подчиняется устаревшим, стандартным принципам кинопроизводства. Согласие режиссера на любую работу должно не приветствоваться, а, наоборот, браться под подозрение. «Либо этот режиссер совершенно безразличен к конечным результатам работы, либо он настолько творчески голоден, что махнул на все рукой: только бы дорваться до съемочного аппарата».
Но тенденция страсти разбивалась о холодную тенденцию предвзятости, расчета; тенденция, вытекающая из наблюдения жизни, поэтического чувства, убежденности, уступала место тенденции схемы, которую прикладывали к окружающему и отсекали все, что не было согласно с ней...
Кто же осуществлял все это?
В дневниках Вертова содержится портрет одного такого чиновника, бездушного тупицы, поставленного «руководить искусством», — директора Алма-Атинской киностудии в годы войны Ахмедова.
Это был человек, пишет Вертов, который понимал лишь количественное выполнение программы в столько-то единиц. Качество замысла он измерял бухгалтерски — экономией расходов, минимумом времени для осуществления задуманного и т. п. Сам замысел тоже оставался для него непонятным, так как он «мыслил еще целыми числами начинающего школьника и о существовании даже простых дробей не имел понятия». Говоря иносказательно, ему казалось, что для определения расстояния от Алма-Аты до Москвы потребуется обязательно измерять это расстояние аршином и что другого способа быть не может. Режиссеры были в его глазах существами нижестоящими, «тайны» которых он давно открыл. «Ему казалось, что он осведомлен полностью в кинематографическом деле, раз он прикрикивает на режиссеров, и они молчат» (1943).
С существованием людей подобного типа Вертов не мог примириться до конца жизни...
Однажды в минуту душевной подавленности, упадка сил Дзига Вертов записал в своем дневнике:
«Я всю жизнь строил паровоз, но не смог добиться широкой сети рельсов...»
Это были слова, продиктованные отчаянием.
Как всякий художник, Вертов страстно мечтал о том, чтобы его фильмы, его теоретические выводы, статьи, открытые им методы работы получили бы широкий общественный отклик, распространение, двинули вперед то дело, которому он посвятил свою жизнь. И вот в то время, когда были записаны эти слова (а это было в начале 40-х годов), ему стало казаться, что ничему из того, о чем он думал, чего желал, не суждено уже осуществиться.
Субъективно это, к сожалению, оказалось так. Имя Вертова до конца его жизни оставалось почти забытым. Ни один из его поздних замыслов не был осуществлен. Режиссер в послевоенные годы лишь формально числился на студии хроники, монтировал там сюжеты для журнала «Новости дня», но уже не снимал фильмов.
Однако объективно, в плане влияния его творчества, его открытий на историческое формирование искусства образной публицистики, на работу других мастеров, все обстояло иначе. «Паровоз», который строил — и построил — этот энтузиаст документального кинематографа, вопреки тому, что казалось его создателю, преодолел преграды, получил «широкую сеть рельсов» и пришел по ней к победному финишу.
Вместе с Вертовым, учась у него, заимствуя и развивая его методы, его художественное отношение к жизни, выросла большая группа талантливых советских документалистов. Среди них были и Эсфирь Шуб, и Илья Копалин, и Роман Кармен. В годы войны и особенно в последние годы нашей современности мастера документального фильма, кинооператоры и режиссеры, доказали на деле, что новаторские традиции, принципиальность и мастерство Вертова принесли свои плоды, воплотившись в яркие, правдиво отразившие жизнь произведения. Открытые Вертовым новые принципы монтажа, съемка «живого человека», поэтическая конструкция документального фильма, «синхронное киноинтервью, создающее возможность яркой индивидуализации человеческого образа, и многое другое давно уже распространилось за границы государств и оказало огромное влияние на укрепление реалистических тенденций зарубежного кинематографа. Посеянное Вертовым дало такие крепкие, живые всходы, которыми мог бы гордиться каждый сеятель, каждый художник, каждый человек.
В нашем обзоре теоретического наследия Дзиги Вертова мы не коснулись многих и многих тем.
Мы лишь дали понять, но не рассказали читателю о том, что отношение этого художника к жизни, к окружающим его людям и все, что он писал и говорил, могло бы явиться школой нравственности, примером для каждого порядочного человека. Вертов боролся за правду средствами правды. Именно это помогло ему сберечь душевные и творческие силы и сохранить то уважение к себе, которое дороже всех иных богатств мира.
Мы не рассказали в этой статье и о том, как чутко, бережно относился Вертов к своим товарищам по любимому делу, как он заботился о творческом росте каждого. Остались незатронутыми и такие темы, как познавательное и поэтическое в работе кинорежиссера, как соотношение творчества Вертова и Маяковского.
Но едва ли не каждая из этих проблем потребовала бы дополнительного глубокого изучения, и на нее пришлось бы затратить еще десятки «страниц...
То, что здесь написано о Вертове, хотелось бы закончить словами самого художника. Они прямо обращены к нам, его современникам и потомкам:
«Цени не приобретателей, а изобретателей. Помни о первой паровой машине, о первом поезде, о первом аэроплане.
Различай проходку подземного туннеля от приятной поездки в вагоне метро.
Противодействуй легкой наживе. Дай сеятелям пожать плоды своих трудов. Поощряй искусство смелых «садовников, а не искусство срывающих яблоки».
Дзига Вертов не умер. Его творческое и теоретическое наследство, его великолепное искусство, его гражданское мужество и талант — с нами.
Они продолжают — и будут продолжать — свой путь «в незнаемое».
С. Дробашенко
СОДЕРЖАНИЕ
С. Дробашенко. Теоретические взгляды Вертова 3
Статьи, выступления... 43
Мы. Вариант манифеста.. 45
Пятый номер «Киноправды».. 49
Киноки. Переворот... 50
Об организации опытной киностанции. 58
Кинореклама... 60
О значении хроники . 67
«Киноправда».. 68
О фильме «Киноглаз». 68
О значении неигровой кинематографии... 69
«Киноглаз». 72
Рождение «киноглаза»... 73
О «Киноправде»... 75
Художественная драма и «киноглаз». 79
Основное «киноглаза» .. 81
Кинокам юга... 82
«Киноправда» и «Радиоправда». 84
По-разному об одном. 86
Фабрика фактов... 87
Киноглаз... 89
О фильме «Одиннадцатый»...104
«Человек с киноаппаратом».106
От «киноглаза» к «радиоглазу»...109
Из истории киноков..116
Письмо из Берлина. 120
Ответы на вопросы.. 122
Обсуждаем первую звуковую фильму «Украинфильм» —
«Симфония Донбасса»... 125
Первые шаги...127
Как мы делали фильм о Ленине.130
Без слов.. 131
Хочу поделиться опытом.133
«Три песни о Ленине» и «киноглаз». 137
Киноправда.139
Последний опыт...143
Об организации творческой лаборатории... 145
Правда о борьбе героев .. 150
В защиту хроники...152
О любви к живому человеку.154
Из записных книжек и дневников... 161
Творческие замыслы, заявки. 269
Проект сценария, предназначенного к съемке во время поездки агитпоезда «Советский Кавказ».271
О приключениях делегатов, едущих в Москву на съезд Коминтерна.274
Сценарный план фильма «Одиннадцатый»..275
«Человек с киноаппаратом» (Зрительная симфония) . . 277
Звуковой марш (Из фильма «Симфония Донбасса») . . 280
«Симфония Донбасса» («Энтузиазм»)..283
«Она» и «Вечер миниатюр»..285
«Девушка-композитор»...285
«День мира»...286
«Девушка играет на рояле».288
«Письмо трактористки (Фильм-песня) . 297
«Тебе, фронт!»...299
«Минута мира».302
Галерея кинопортретов ... 303
«Маленькая Аня» (кинопортрет)...303
Приложения.. 307
Комментарии и примечания 309
Фильмография..316
Примеры страниц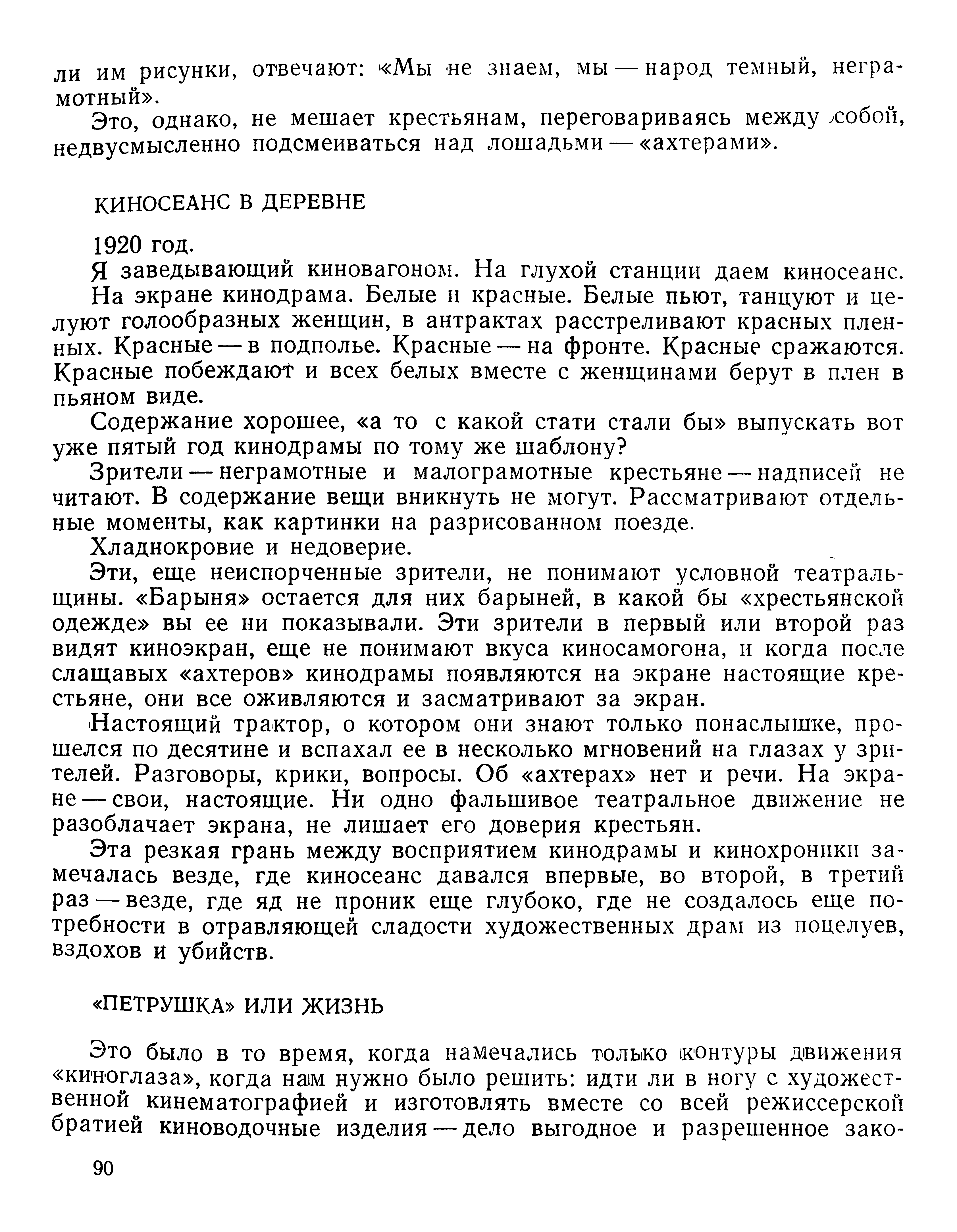 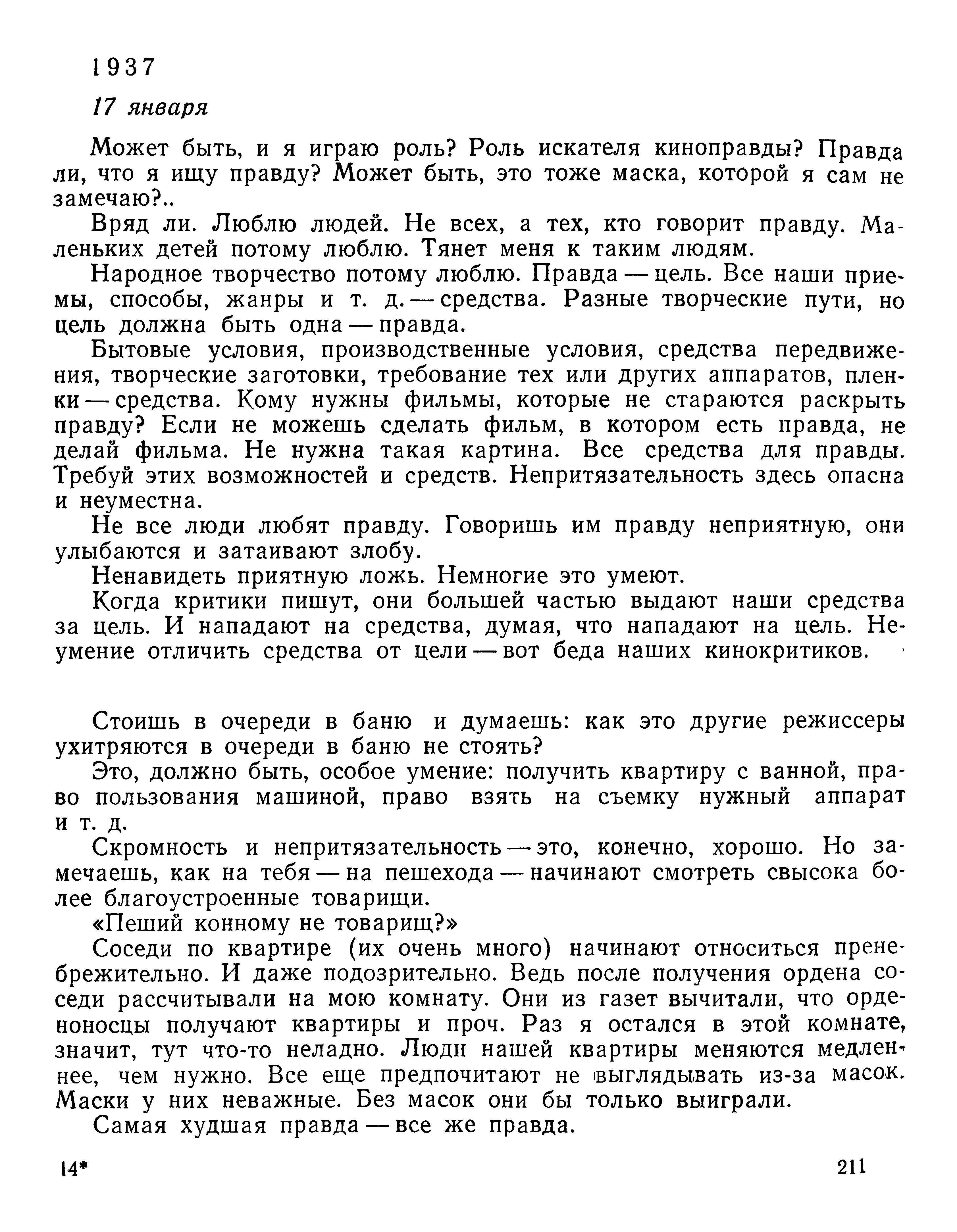
Скачать издание в формате djvu (яндексдиск; 7,6 МБ).
Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу 42@tehne.com.
5 мая 2016, 19:12
0 комментариев
|
Партнёры
|







Комментарии
Добавить комментарий